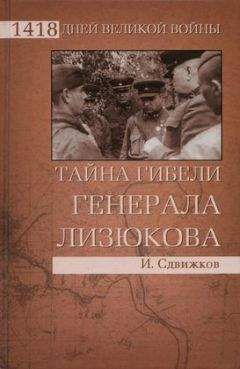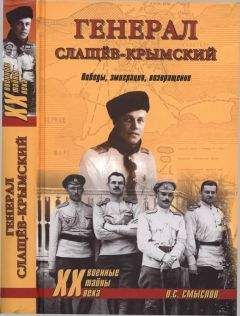Наталия Слюсарева - Мой отец генерал (сборник)
Изумиться человеку, будь то известный писатель или, при взгляде на старую карточку, его друг по средней школе: «Нет, какой восхитительный человек Нодик, другого такого нет», – и прокричать об этом, прокричать над складками гор, над улицей Юго-Западного округа столицы – песня его сердца. Лиственница за окном его поддержит.
Анна хлопочет на кухне.
– Жэнщина... гдэ ты?!!!
Звучно через столик, преувеличенно с акцентом, в направлении кухни глас ее мужчины. Театральный жест поднятой руки вверх.
Из кухни:
– Иду, иду... уже здесь, с вами.
Анна и Армен. Мужчина и женщина. История – простая и необыкновенная. Сюжет и фабула – они не могли не встретиться. Встретились оба несвободными. Он – известный кинорежиссер, ищущий для роли в своем новом фильме молодую актрису. Она – та самая молодая актриса из драмтеатра, которой в тот день так не хотелось идти на встречу с режиссером. Разглядывания, пробы, приглядки... может, не стоит... лучше не сегодня.
Сюжет для небольшого рассказа. Вышла пьеса на два действующих лица. История любви написана драматургом Зурабовым, отрепетирована, поставлена на сцене и снята в версии телевизионного спектакля. Название – женское имя «Лика». Ее пульсирующий над страной на десятилетия чип – песня известного барда: «Дерева, вы мои дерева,/Что вам головы гнуть – горевать./До беды, до поры/Шумны ваши шатры,/Терема, терема, терема...»
Нежная и пронзительная пьеса – хрупкая и сильная одновременно. Для наших позднейших времен светло целомудренная. Крест и роза. Соловей сокрыт в тени ветвей.
– Женщина! Так, где ты?
Старинный овальный столик – вся мебель перевезена из отеческого дома в Тбилиси – каким-то чудом вмещает непереставаемо носимую из кухни снедь: печеный картофель, селедку, маринады, огурцы и помидоры, салаты, лобио, бастурму, грузинские травки, армянский сыр «чанах», баклажаны, перцы и прочее и прочее. Все. Дальше некуда. Пространства нет даже для соли. Просто больше не имеется. Хлеб пошел по рукам. А хозяйка все носит и носит. Тарелочкам с каемочкой, селедочнице, рюмкам и пиалам не остается ничего иного, как договариваться. Не без легкого возмущения они сдвигаются, втягивая поглубже в себя свои хрустальные брюшки, подбирая фарфоровые ножки. Ничего, потеснимся, вон на том краю за горкой белой солоноватой брынзы есть свободный островок для влажных листьев салата, который чуть ли не плачет. «Давай вписывайся, чего там...» Разве можно огорчить Анну?
О, чудо-столик! Столик для маленького Мука. Столик, за которым при наличии небольшого воображения можно вообразить поочередно скупого рыцаря, пересчитывающего свои золотые дублоны, карлика герцога, мечтательно глядящегося в сердцевину инкрустированной овальной столешницы, сжимающую в узких ладонях колоду Кармен. Опля! Пара атласных карт, туз и дама, не удержавшись на краю, непременно слетят на пол.
– Жэнщина! Все ждут тебя!
– Сейчас, сейчас... не могу же я... Вы садитесь.
– Вах! Мы сидим.
«Ух!» и «Ох!». Призвав на себя ветерок от полотенца, веера, фартука, Анна опускается на стул. Глаза веселые. Веселые оттого, что все идет как должно. Есть столик, который умеет накрываться только пиром. Есть еда, есть Армен. Есть мы, которые пришли. Есть кого любить. И кому подкладывать.
– Ой, Анюта, не могу больше...
– Да ты только попробуй, вот... (половина блюда уже на моей тарелке). Это же все с рынка.
И как не попробовать, когда перед тобой – в узорчатых виноградных листьях долма, которой с пальчиков кормила Язона черноглазая Медея, дымящиеся, не требующие челюстных усилий, сами собой лениво отваливающиеся от ребрышек пахучие куски баранины в божественном соусе – блюда уже царицы Тамар. Добровольно соскользнешь в ущелье. Пальчики облизываешь, облизываешь, только что не мурлычешь. «Ладно, – уговариваешь себя. – Ну, глобальное переедание». Ничего, зато следующую неделю ублаженный организм ничего не запросит у тебя, по уши в витаминах и редких минералах.
– И как ты это готовишь?
– А я тебе сейчас расскажу... – хозяйка с энтузиазмом, – берешь зелень, пассеруешь лук... – И далее, казалось бы, столь же божественно простой рецепт.
Ты головой киваешь, киваешь. Но уже наперед знаешь, что сама дома не возьмешься. Ибо дело не в ингредиентах, хотя и в них. Но то волшебное, не слабое, что исходит от Анны, от ее рук и сердца, и делает эту еду уникальной. Да и исходит-то самое простое – любовь. Но как же ее много! И какого она неповторимого вкуса.
В круг столика гости нанизываются ожерельем. Двое сели – отлично. Четверо – усаживаемся. Вшестером – потеснимся. Как-то сидели ввосьмером, и восьмерым места хватило. Ломберный столик с готовностью раскатывает перед гостями свою палубу-самобранку. Что ж, сели. Подняли наполненные бокалы. Взоры устремлены на капитана. Еще минута, и мы отчалим на нашем инкрустированном кораблике в страну счастья. На Востоке капитанская должность зовется «тамада». Тамада – от грузинского tamadoba, что буквально означает «старшинство во время пира». Старшинство за хозяином. Первый тост Армен будет говорить в честь гостя – и так пойдет по второму и третьему кругу по часовой стрелке или против. По какой стрелке и на сколько заходов, в сущности, не важно, интересно другое. Не думаю, чтобы кто-либо из тех, кто пришел в этот день к Армену и Анне, в жизни слышал о себе подобное. «Столько хорошего?» – подскажете вы. О хорошем тут не говорят, тут и превосходная степень не добирает до степени хозяев дома. Самые малые, непроявленные, но имеющиеся в потенциале у пришедшего положительные задатки будут предъявлены ему во всем блеске мастерской огранки. Не предполагающий в себе столь могучих талантов, гость румянится. Каждый, на кого обращен по очереди мощный, бьющий, как из брандспойта, луч тамады, цветет благодарным цветом.
Да, ты – такой. С храброй душой и золотым сердцем. Тебя облекают в светящиеся одежды и выводят на авансцену. Знакомьтесь, перед вами – Серафим, житель совершенных небес...
Анна улыбается. Но мы все знаем, Анна – сама командор.
В первый раз я услышала Анну Смирнову в Москве, на сцене театра «Школа современной пьесы», что на Трубной площади, в конце восьмидесятых. Представлял певицу Булат Окуджава, сам Окуджава, заслуженный барабанщик и трубач всех трубных площадей и арбатских переулков, чрезвычайно скромный и что-то такое по своей обычной нелюдимости сказавший, буркнувший, что Анна Смирнова – это очень хорошо, и утонувший в сумеречной ложе бенуар на последующие два с половиной часа. Помнится, я тоже утонула, пропала в абсолютном волшебстве магии голоса, слова и души. Ах, да и в самом деле стянуть эту долгую белую скатерть со звоном шампанского стекла из голицынских подвалов, стукнуть каблучком да закружиться метелью в шали Ахматовой. Ах! Анна, что за чудо!
После концерта, вслед за многократными криками «браво» и «бис», соседствующий со мною по партеру приятель художник (настоящий художник, по одному уже тому, что практически без всяких средств к существованию), вцепившись в подлокотники кресла, чуть ли не кусая запястья, негодовал. Отчего он не богатый купчина, отчего не может он прямо сейчас швырнуть на сцену к ногам Анны соболью шубу или выставить перед ней корзину с нанизанными на георгины гроздьями гранатовых браслетов?
Много раз я слушала Анну и в Крыму на берегу, для нас всегда Эвксинского, самого гостеприимного из морей, в курортном поселке Коктебель, поселке со своим климатом, своей историей, населением, поселением, точно обозначенным кем-то, может и Максимилианом Волошиным, как обормотным. Обормотничество, она же богемность, то есть наивысшая мера свободы, у коктебельцев в крови. В 90-е годы пение происходило уже не во дворе, хотя и во дворе – прекрасно и неповторимо, – в открывшемся на веранде Дома Волошина кафе «Богема».
У «Богемы» своя не простая судьба. Ее тягали из рук в руки арендаторы. Одни хотели сделать из «Богемы» шикарный ресторан с белыми накрахмаленными скатертями, другие – столь же торжественное для посольских гостей. Поначалу кафе делило с кинотеатром один барак: ему строили козни, его поджигали. «Богеме» пришлось завести себе крылышки. Пчелкой-хиппи она порхала над поселком, опускаясь то на полянку поближе к корпусам с отдыхающими, то на набережную. Последнее пристанище – вполне с артистическим интерьером, изогнутыми габриаками и старым черным пианино, – кафе обрело в глубине тенистого парка (в оные времена литфондовского), по чьим тропинкам на протяжении многих лет спешила, торопилась к морскому прибою советская «письменниковская» элита. Сегодня «Богеме» без генуэзских стен и парусиновой крыши не страшно ничего, кроме дождя, хотя и в ненастную погоду, отважно подставляя под косые ливни свои сухие полынные букеты, она укроет под соседними кронами парочку заскочивших обормотников.
Известно, что вначале было Слово. Лично для меня это стало понятно через Анну. У нее власть над словом, даже сговор. Слово смотрит ей в рот. Своим магическим, то есть имеющим силу и чары, голосом она одевает слово, да что там слово, каждый слог в подходящие ему одежды. Безупречно! Написанное слово она переводит в услышанное. Услышанное первозданно автором – Аполлинером, Верленом, Гумилевым. Идеальный проводник их поэтической речи. Голос уникальный. Голос – Свет. Взрастающий клинком меча с наковальни души. На такой голос выберешься из самого гибельного лабиринта.