Дэвид Стори - Сэвилл
— Боюсь, я не знаю ее планов, — сказала она так, словно речь шла о ее муже. — Она не говорила, что собирается к вам. Может быть, вы позвоните вечером?
— Хорошо, — сказал он. — Я позвоню.
— Она огорчится, что вы ее не застали. Ей надо сделать в городе кое-какие покупки. У нее еще почти ничего для университета не готово. А ведь несколько дней назад она, казалось, только об этом и думала.
— Я объясню тебе, в чем твоя беда, — сказал отец, когда он вернулся в дом. — У тебя нет никакого занятия. А и начнешь учительствовать, так все равно делать тебе будет почти нечего. Ему ведь учить как орехи щелкать, — добавил он, повернувшись к матери.
— Это ты хотел, чтобы я стал учителем, — сказал он.
— Я не хотел, чтобы ты вкалывал, как я, — сказал отец. Маленький, ссохшийся, он курил, скорчившись в кресле перед огнем в подштанниках и рубашке.
— Но если ты сам хотел, чтобы я выбрал такую профессию, так почему ты теперь ее принижаешь?
— Хотеть-то я хотел, — сказал отец. — Только все равно очень уж она легкая.
— Какой я должен сделать из этого вывод? — сказал он, оглянувшись на мать. Она стояла у раковины и, медленно двигая руками в мутной воде, мыла посуду. — Я получил профессию, а ты ее презираешь.
— Да не презираю я ее, — сказал отец медленно, обводя глазами кухню. — Моя работа — одна только грязь, — добавил он. — Грязь и еще грязь, пот и ругань, какой ты в жизни не слышал. Мы дали тебе образование, чтобы ты получил профессию. Мы тебя вытащили отсюда.
— Так зачем же ты ее принижаешь? — сказал он еще раз. — Как я могу ею гордиться, если ты ее презираешь?
— Да не презираю я ее. Сказал же, что не презираю! — Отец поднялся на ноги и убрал подальше от огня деревянные кубики. — Того, кто выбрался из шахты, я презирать никак не могу, говорят же тебе!
Некоторое время они молчали. Мать в углу медленно мыла посуду и ставила ее на доску сушиться. Колин взял полотенце.
— Я ведь что говорю: не могу же я быть против, верно? — неожиданно добавил отец, обращаясь к матери. Он стоял у очага, ища пепельницу, чтобы погасить сигарету. В конце концов он стряхнул пепел в огонь, а окурок положил на полку. — Он будет получать столько же, сколько я получаю. После тридцати с лишним лет работы в шахте.
Мать ничего не ответила. И только еще сильнее сгорбилась над раковиной.
— Я вот что хочу сказать: коли есть на свете человек, который способен оценить такую работу — два месяца отпуска, а то и больше, ни тебе смен, ни ночной, ни грязи, ни надобности надрываться на шестом десятке, а потом приличная пенсия, и можно стишки пописывать по субботам и воскресеньям, да и по вечерам, причем, толком еще не начав, получаешь столько же, сколько шахтер, — так, уж конечно, человек этот я. Если кому нужен совет, идти ли в учителя, пусть ко мне обращаются: они у меня живо в школы, кинутся. Черт подери, уж одно-то я в жизни усвоил: только безмозглый дурак будет делать мою работу. Только идиот с рождения.
Мать отошла от раковины.
— Я, пожалуй, пойду прилягу, — сказала она.
— Что? — Отец отвернулся от очага. Он совсем недавно встал с постели.
— Я, пожалуй, прилягу.
Лицо у нее было пепельно-серым, глаза смутно темнели за стеклами очков.
— Что с тобой? — спросил отец.
— Да ничего.
Она покачала головой и прошла мимо Колина к лестнице.
— Ну, а все-таки? — сказал отец. — Может, послать Стива за доктором?
— Ничего, — сказала мать, и через секунду они услышали ее медленные шаги на лестнице. Потом заскрипела кровать. Отец поглядел на него и сказал:
— Не понимаю, почему тебе обязательно надо ее волновать.
— По-моему, это ты начал, — сказал он.
— Обязательно затевать дома всякие споры, — сказал отец. — И расхаживать с физиономией, от которой молоко киснет. Если Маргарет променяла тебя на Стэффорда, ты сам виноват.
— Почему же я виноват? — сказал он.
— Увяз тут. Увяз со своими писаниями. А он смотрит мир, делает что-то. Он на месте не сидит.
— И я не сижу, — сказал он.
— Да неужто? — сказал отец хмуро. — А как же ты это называешь?
— Я остаюсь тут, потому что должен содержать тебя.
— Меня содержать?
— Нас всех, — сказал он. — Семью.
— Это еще почему?
— Потому что ты не справляешься, — сказал он. — Без этого.
Отец отвел глаза.
— Но ты правда считаешь, что Маргарет такая? Насколько ты ее знаешь? — добавил он.
— Да с женщинами разве разберешься, — сказал отец, но уже спокойнее, и поглядел на потолок. — Надо бы подняться посмотреть, как она.
Немного позже он услышал их голоса в спальне. Потом отец опять спустился в кухню, уже в брюках, постоял у очага, ища сигарету, и в конце концов взял окурок, который оставил на полке. Он нагнулся к очагу за угольком, чтобы прикурить, и дернул головой, когда поднес его почти к самому лицу.
— Она хочет полежать отдохнуть, — сказал он. — И я думаю, все обойдется. Совсем себя не жалеет, сам знаешь.
Вот если бы ты хоть немного по дому помогал. Хотя, конечно, ей помогать нелегко, можешь мне поверить.
После обеда отец ушел на работу. Перемыв посуду, Колин отнес матери наверх чашку чая. Она все еще спала, отвернув круглое лицо от занавешенного окна, уткнув его в подушку и загородив одеялом.
Он поставил чашку и пошел к двери, но, закрывая ее, услышал, что мать пошевелилась, а потом раздался ее голос:
— Это ты, голубчик?
Он просунул голову в дверь.
— Я принес тебе чаю, — сказал он. — А есть ты будешь?
Она медленно высвободилась из одеяла.
— Отец ушел на работу? — сказала она.
— Полчаса назад, — сказал он.
— Он пообедал?
— Да, — сказал он.
— У меня для него было мясо. Он его съел?
— Да.
Он выжидающе стоял возле кровати. Мать не притронулась к чаю.
— Может быть, тебе еще что-нибудь нужно? — спросил он.
— Нет, — сказала она. — Ничего.
Позже, когда он подметал кухню, она спустилась вниз, оглянулась по сторонам, готовая взяться за работу, и пошла к раковине, словно собираясь опять мыть посуду.
— Я все убрал, — сказал он.
— Мне надо до завтра выстирать отцовскую рабочую одежду, — сказала она.
— Я выстираю, — сказал он.
— А где Стивен и Ричард? — сказала она, подходя к окну.
— Гуляют, — сказал он.
— А они пообедали?
— Да, — сказал он.
Она взяла у него одежду отца.
— Я постираю. В раковине, — сказала она, придвигая кастрюлю с водой к огню. — Тут надо уметь, а то грязь только заварится. А уж что останется, — добавила она, — того потом не ототрешь.
Он стоял у очага и смотрел, как она стирает.
— А Маргарет так и не заехала? — сказала она.
Он мотнул головой.
— Не надо, голубчик. Никто не стоит того, чтобы из-за них страдать. То есть в твои годы. В твою пору жизни, — сказала она и медленно подняла наклоненную голову. Она прополаскивала одежду в холодной воде под краном. — Того, что отец наговорил, ты к сердцу не принимай. Жизнь у него тяжелая, только и всего. Его бы работу тридцатилетнему делать. Ну, и конечно, он ожесточается.
— Да, — сказал он.
— И тоскует, что у него самого такой возможности не было. Он вовсе не хочет принижать то, чего ты добился.
— Я знаю, — сказал он.
— Ты еще маленьким всегда при себе все держал.
Она умолкла, опустив руки в таз, наклоняя голову над раковиной.
— Я не думал, что был скрытным, — сказал он.
— Да не скрытным! — Она попыталась улыбнуться. В полутемном углу ее лицо было еле различимо. — Я другое хотела сказать: ты не умеешь выражать того, что чувствуешь. Ну, и люди могут этим воспользоваться.
— Я ничего подобного не замечал.
— Конечно, — сказала она и отвернулась к раковине. — Это значит, как бы тебя ни били, ты никогда не сможешь показать другим людям, что ты чувствуешь.
— Ну, не знаю, — сказал он и добавил веселым тоном: — Рубашки дай я постираю. А ты посиди передохни. Если я что-нибудь не так буду делать, ты меня поправишь.
Она села к столу. И ему вспомнилось, как они были у ее родителей: та же бессильная усталость, бессмысленное и жестокое крушение жизни — точно мухи, умирающие в углу.
— Маргарет ведь еще очень молоденькая. Она сама не понимает, чего хочет. И нехорошо, — добавила она, — принуждать ее.
— Но я никогда ее ни к чему не принуждал, мама, — сказал он.
— Да, по ты был слишком уж к ней близок, — сказала она. — У нее возможности не было увидеть кого-нибудь другого. Ты очень многого от нее требовал, пусть она этого и не сознавала. Ну конечно, она начинает сопротивляться. И опирается на кого-нибудь вроде Невила. А в нем много обаяния, этого у него не отнимешь.
— Ну, не думаю, что все настолько уже черно, — сказал он.
— Да, — сказала она. — Наверное.
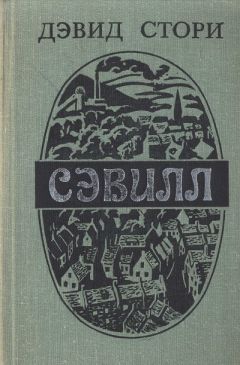

![Дэвид Стори - Сэвилл [отрывок]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
