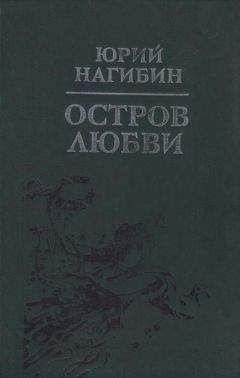Юрий Нагибин - Любовь вождей
То была неустанная, кропотливая, растянутая в веках работа, отнюдь не романтичная, безжалостно жестокая, костоломно бесчеловечная, ведь история иначе не делается, она каждый свой храм ставит на крови. Самый неблагоуханный из подвигов Геракла — очистка авгиевых конюшен — куда опрятнее небрезгливых трудов Агасфера.
Все собиралось по крупицам, и поначалу неприметно было даже малого успеха, хотя бы продвижения к поставленной цели; напротив, казалось, что Вечный жид совершает движение в обратную сторону. Надо отдать ему справедливость, он не впадал в уныние от крупных провалов, а спокойно начинал все сначала.
Он старался тщательно продумать, рассчитать каждый шаг, но и это не гарантировало успеха. Он стойко держал удары, терпеливо вносил коррективы в свои расчеты, но характер у него портился.
Прежде такой подтянутый, сдержанный, всегда соответствующий обычаям, этикету, правилам вежливости той страны и той среды, где ему приходилось действовать, он стал неряшлив, груб, небрежен в словах и жестах. Оказалось, все это совершенно не нужно для того дела, которое он задумал, как и ловкая политичность, тонкая лесть, умение очаровывать. Его оружием стали деньги, деньги и деньги, затем интриги, силовой напор, в основе которого, как правило, лежал шантаж, умелая и грубая игра на социальных и расовых противоречиях. Можно душить с нежной улыбкой, можно ставить человека на колени, щадя при этом какие-то хрупкие ценности в его душе. Вечный жид прежде так и поступал, но потом сбросил маску. Впрочем, трудно сказать, была ли это маска. Возможно, он стал другим, в нем сменилась кровь. Быть может, он лучше узнал людей, прежде всего власть и силу имущих, и преисполнился великого презрения к ним. И еще он узнал, что заинтересованного в тебе человека невозможно обидеть. А поскольку все люди чего-то хотят друг от друга, человечество не обидчиво. Он умел этим пользоваться.
Чтобы понять, как менялась повадка Вечного жида, достаточно сравнить его обхождение с Людовиком XIV в исходе семнадцатого века и с Николаем I в середине девятнадцатого. Исторически хорошо известны тесные отношения Короля-Солнца с банкиром Бернаром, но едва ли кому ведомо (в том числе самому Людовику и его морганатической супруге г-же де Ментенон, часто делившей интимные ужины монарха с банкиром), что мнимый Бернар — французское имя не могло скрыть сильный подмес восточной крови — был Агасфером. Он ссужал короля деньгами для бесконечных, затяжных и несчастливых войн — пора блистательных побед Конде и Тюренна давно миновала — и помогал устройству разрушенных финансов. Агасфер не испытывал пиетета к крошке королю, поднявшему себя на котурны, как древнегреческие актеры, но не обретшему величия. Единственный человек при дворе, на кого Людовик мог смотреть сверху вниз, был его брат, злобный карлик-педераст герцог Орлеанский. Наверное, этим превосходством и объяснялось стойкое расположение короля к этой мерзкой личности. Людовик был очень неглуп, проницателен, легко угадывал в людях талант, ум, работоспособность и не мешал проявляться этим качествам, чему и был обязан блеском своего царствования. Сам же был ленив, тщеславен, сластолюбив и фанатично привязан к строгому и запутанному этикету, им же разработанному. Кажется, то было единственным его самостоятельным деянием.
Вечный жид не играл на слабостях короля, полагаясь на честную силу денег и полезность своих мудрых финансовых советов. Он не жалел для фанатика этикета глубокого, изящного поклона, изысканно подходил к руке мадам де Ментенон, тоже нуждавшейся в деньгах для каких-то своих личных дел, был почтителен без скованности, тонок в выражениях без жеманства, и король испытывал эстетическое наслаждение от его визитов. И конечно, охотно удовлетворял все ходатайства Бернара за разных предприимчивых людей, которых тот собирал в Париж со всего света. Людовик быстро смекнул, что эти люди, несмотря на испанское, немецкое, итальянское, греческое звучание своих имен, были сплошь евреями. Но король был равно чужд и расовых, и религиозных предрассудков. Он отменил Нантский эдикт не из ненависти к гугенотам, а под чудовищным давлением католической церкви во главе с папой Иннокентием.
Конечно, Людовику было неведомо, что банкир Бернар закладывал тот слой, из которого позднее вышли банкиры Ротшильды. Сколько бы другой еврей, Марсель Пруст, ни иронизировал над сэром Руфусом Израэльсом, едва терпимым в свете (прообразом его был барон Жорж Ротшильд), могучий и разветвленный род проник в высшие круги Франции, Англии, Германии, породнился с Монморанси, Мальборо, Гогенштауфенами, изрядно подпортив им кровь. Как все ленивые люди, Людовик любил и умел слушать, а банкир Бернар был поразительным рассказчиком. Все его рассказы шли от первого лица, даже если это касалось разрушения Иерусалима, битвы в Товтобургском лесу или Столетней войны. Людовика восхищала дерзкая и, как ему казалось, насмешливая манера рассказчика. Как-то раз мадам де Ментенон сказала с тем далеким, глубоким светом в ореховых глазах, которым изредка напоминала о себе ее уснувшая душа, что банкир Бернар и в самом деле был свидетелем давних событий, о которых повествует.
— Сколько же ему лет?
— Не знаю. Долгожители известны в мире. Вспомните оруженосца Карла Великого.
— Надеюсь, мы производим на него хорошее впечатление? — изволил пошутить король.
Мадам де Ментенон, как всегда, поняла с полуслова:
— Неужели вас волнует мнение потомков?
Людовику было на это наплевать. Человек, воплотивший в себе суть эпохи («Государство — это я», — сказал совсем юный монарх, едва выйдя из-под опеки кардинала Мазарини), мог быть спокоен за место в истории.
Госпожа де Ментенон тоже была спокойна, но по другой причине: она опасалась не этого долгожителя, а мемуариста герцога Сен-Симона, пронюхавшего, что Лозен, будущий маршал Бирон, прятался у нее под кроватью…
Совсем иной тон Вечный жид взял через полтора века с русским самодержцем Николаем I. В эту пору Агасфер уже вовсю неглижировал как внешностью, так и манерой поведения, тем более что Николай ему резко не нравился: коломенская верста, хвастун, удачник, дуботол и скрытый трус.
Агасфер приходил к нему в самом непотребном виде, всегда голодный и недовольный. Впоследствии, когда он прочел «Бесы» Достоевского, его веселило, что он предвосхитил манеру поведения Петра Верховенского с Кармазиновым (карикатура на другого знаменитого русского писателя — Тургенева, которого Вечный жид не мог осилить); тут нет ничего удивительного: Достоевский мастерски изобразил тип парвеню, личину которого надевал и Агасфер.
— Как дела, отец командир? — похохатывая, спрашивал Николай, маскируя смехом свой страх перед жутким посетителем.
— Я тебе не дурак Паскевич, — хамил Вечный жид.
Николай проходил военную службу под командой будущего князя Эриванского и навсегда сохранил пиетет к нему.
— Жрать хочу, — продолжал Вечный жид, развалясь в кресле и швырнув на стол свой местечковый картузик. — И вели вина самосского подать, а не вашу кислятину.
Разумеется, Николай не сразу принял этот стиль отношений. Первый раз он попытался в палки прогнать наглеца, но Вечный жид, поднаторевший во всех видах единоборств, в два счета обезоружил призванных государем служителей, отколотил их и замахнулся на Николая, будто желая огреть его по голове. Тот присел, закрыв лысину руками.
В следующий раз Агасфера схватили при выходе из дворца, оглушили (так показалось нападающим) и бросили в Неву. Отличный пловец, он спокойно переплыл на тот берег и полюбовался оттуда прекрасным силуэтом Петербурга, где не бывал с петровских времен. Но тогда города еще не было — сплошные строительные леса, где лишь местами проглядывали контуры грядущего чуда. Он примчался сюда, чтобы предотвратить казнь знаменитого барона Шафирова, осужденного царем за лихоимство и поставку гнилого сукна армии. Агасфер остановил карающую руку и сохранил для России первого, но далеко не последнего еврейского барона. Его не интересовали ни государственный ум, ни деловая хватка барона, он нужен был ему лишь как опылитель русских красавиц — Шафиров не пропускал ни одной юбки.
Когда солнце потонуло в Финском заливе и белая ночь щемяще высинила окна Зимнего дворца, Вечный жид тем же водным путем вернулся во дворец и в мокром платье прошел в кабинет государя, напугав того чуть не до смерти и безобразно заследив навощенный паркет.
Третья карательная операция была проведена на высшем полицейском уровне. Вечного жида схватили у входа во дворец, чего он никак не ожидал, явившись неожиданно, но группа захвата дежурила круглосуточно вот уже второй месяц. Его связали, заковали в кандалы, отвезли в Петропавловскую крепость и бросили в подвал Алексеевского равелина.
В начале нашего века в Соединенных Штатах прославился фокусник Гудини. Вершиной его престидижитаторского искусства было умение освобождаться от всех пут и выходить невредимым из любого узилища. Так вот, ловкий американец был ребенком малым перед Вечным жидом. Человек недолго ходит под солнцем, он не успевает раскрыть своих истинных возможностей. Он куда сильнее, пластичней, ловчее, изобретательней, чем принято считать. То же относится и к познанию внешнего мира. Он ухватывает кое-как лишь грубую очевидность вещей и явлений. А ведь куда интереснее на той, скрытой стороне; мы живем в одной сфере, а их множество — одна в одной, одна за другой, там таятся от слабого сознания временщика бытия самые жгучие тайны. Мы возимся с домовыми, лешими, водяными и прочей бытовой скучной нежитью, когда так близко хрустальные дворцы демонов. Вечная жизнь дает представление о скрытой мощи человека. Но это о другом…