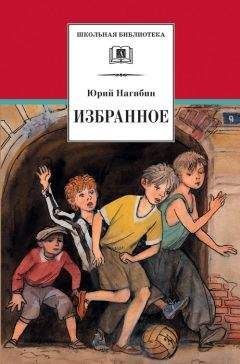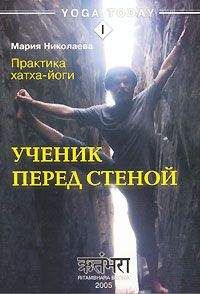Юрий Нагибин - О любви
— Как это понять — к нам? В колхоз или ко всей местности?
— Да нет. К тебе я приехал.
Маруся засмеялась. Она даже остановилась, чтобы отсмеяться вволю. Красивой темной рукой вытерла повлажневшие глаза.
— Зря смеешься. Я правду говорю. — От неловкости это прозвучало резко.
— Шутите! Веселый! — сказала медноликая женщина, притворявшаяся Марусей. — Раньше вы таким не были. Вас тут «грустным лейтенантом» звали.
— Да какой же я был грустный? — искренне удивился Климов. — Я никогда больше таким веселым не был.
— Ну что вы? Молчаливый, задумчивый, глаза печальные-печальные. Как у Лермонтова! Я вас и полюбила-то за грусть. Нет, правда!.. Каким ветром вас сюда занесло?
— Тебя хотел увидеть, ничего больше, — без всякого подъема сказал Климов.
— Да будет вам! — В голосе ее прозвучала усталость. — Сколько лет прошло. Небось и не узнали бы меня, если б на людях встретили.
— Ты правда очень изменилась.
— Постарела. Годы идут.
— Нет, не то. Просто совсем другой стала.
— В такую уж, верно, не влюбились бы? — Маруся снова засмеялась. Это тоже было новое в ней, прежде она и улыбалась-то редко, а смеха ее он почти не слышал.
— Ну почему?.. — любезно начал Климов и вдруг с удивлением ощутил, что любит не ту далекую девушку Марусю, а эту жарколицую, с лиловым ртом и алыми скулами, с суховато-крепким, рабочим телом немолодую женщину. — Ты мне опять прекрасна, Маруся, — сказал Климов.
— Будет вам! — Она махнула рукой. — Наслушалась я этих слов, верила им…
— Скажи еще, что всю жизнь ждала…
— Ждала!.. Видит Бог, ждала!.. Хоть письмишка, хоть весточки какой. Я уж думала: убили. А потом мне кто-то сказал — в Берлине вас видел. Да это Виктор Николаич, помните, художник, он рисовать потом сюда приезжал.
— Ну и ты, конечно, хранила мне верность, отказала всем женихам, осталась одна-одинешенька?
Она усмехнулась:
— Муж у меня, пацан уже большой. А у вас кто?
— Никого. У меня нет семьи.
— Да как же? — испуганно произнесла она. — Разве так можно?
— Выходит, можно. Не сложилось. Я очень тебя любил, после так не случалось, а без любви кой толк в семье?
— Очень даже большой толк! — сказала она убежденно. — Знаете, говорят: стерпится — слюбится. Без семьи, без детей — жизни нету, одно баловство.
— Не тебе об этом судить.
— Кому же, как не мне? Как я любила тебя, Леша, ты и вообразить не можешь! И верила, и ждала. А потом поняла — не будет тебя, и смирилась. Жить и без счастья можно.
— Это мне известно.
— Нет, я о другом говорю. С детьми жизнь полная. И живешь хорошо — сердцем… Бабьего счастья нету, ну и Бог с ним!.. В памяти есть такой уголочек, куда никто не заглянет, и на том спасибо. У других и того нет, а живут.
— Ты что же, не любишь мужа? — Это спросилось не легко, но, слава Богу, спросилось.
— Ну, уж и не люблю! Как так можно — жить с человеком и вовсе не любить? Конечно, люблю… уважаю… ценю… в жизни ни на кого другого не взглянула, нельзя меня упрекнуть… Но врать не хочу, чего к тебе у меня было — к нему нет. Не люблю я его. Разве можно дважды любить?
— Наверное, нет, — сказал Климов. — Я вот не сумел. Теперь ты веришь, что к тебе ехал?
— А я сразу поверила, только признаться себе боялась. — Она заглянула Климову в глаза. — Плохо тебе, Леша? Нету успеха в жизни?
И странно, когда она так спросила, все последние события его жизни, которые справедливо было бы расценивать как удачу: международная премия, возвращение в Москву, новая работа, — представились Климову настолько ничтожными, что он без тени фальши сказал:
— Плохо, Маруся.
— Бедный… Ну а работаешь где?
— В кино. Режиссером. Я долго не мог пробиться, но сейчас все в порядке. Не с работой у меня плохо, с душой. Я по тебе затосковал…
— Нет, Леша, — сказала она строго, — ты меня не запутывай… Не по мне ты затосковал, по молодости, а может, и по семье… Значит, верил ты в мою любовь? Почему же отказался от меня?
— Не знаю, — сказал Климов. — Я ничего не знаю. И не отвечаю за поступки того человека, каким был когда-то.
— А я вот за все свое отвечаю, — тихо сказала Маруся.
— Завидую.
— Ну а зачем ты все-таки приехал? — как будто и не было всего их разговора, спросила Маруся.
Наверное, надо было сказать: я приехал за тобой, но он не отважился произнести эти слова. Он испытывал странную робость перед этой новой Марусей.
— Неужели не понятно?
— Нет.
— Я уже сказал. Мне надо было увидеть тебя.
— Ну вот, теперь видишь, а дальше что?
Если б она хоть улыбнулась, задавая эти короткие, резкие вопросы, но ее лиловые губы были сомкнуты плотно и жестко.
— Да что ты со мной как судья?
— А я и есть судья, — так же жестко сказала она. — А ты подсудимый. И сужу я тебя сразу за нас двоих… Да нет, Лешенька, чепуха все это! Мне тебя не судить. А и судила б, все равно оправдала… Только приезжать тебе не стоило. И опять не то говорю… Значит, нужно было, коли через двадцать лет собрался. Слава Богу, что приехал, хотя увиделись перед смертью. — Она остановилась. — А мы ведь еще и не поздоровались толком. Здравствуй, Леша. — Она обняла его и прижала твердый рот к его губам.
… Ручьевка совсем не изменилась: те же дома и палисадники, то же чугунное било на бугре, тот же вид опрятности, прочного быта. По пути он расспрашивал Марусю о ее родных и тех немногих общих знакомых, какие у них были. Маруся отвечала, как-то странно и радостно спохватываясь при каждом вопросе, хотя порой и не было повода для радости. Мама? Давно померла мама, лет десять тому назад. Сестры? Любашка учительница, замужем за директором школы тут, в Неболчах, а Нинка в самом Ленинграде обосновалась, она корабельный институт окончила. «Я одна в семье необразованная», — улыбаясь, сказала Маруся. Она работала на ферме телятницей. Муж ее — колхозным электриком. Больше ничего о муже сказано не было, да Климов и не расспрашивал. Ленинградская женщина уехала еще во время войны, может, в Ленинград вернулась, может, померла. «Седая» Ася здесь живет, теперь она и взаправду седая, пятерых детей растит, а муж от желудка прошлым годом помер. Почтальонша Лида совсем беззубая стала, замуж так и не вышла, но веселая, заводная, как прежде. Маруся называла имена еще каких-то своих подруг, уверяя, что Климов должен их знать, они бывали в доме на посиделках, но лица их не оживали в памяти.
— А на гитаре ты еще играешь? — спросил Климов.
— Замужним на гитарах играть не положено. Это для молодых да холостых занятие.
— Почему? Какая тут связь?
— Ну, это в городе так. А у нас не принято. Вдовые, холостые есть даже на гармошках играют. А коли ты жена, так уж соблюдай себя. Гитара — она чтоб завлекать. Помнишь, как я тебя завлекала? — Маруся звонко и громко засмеялась.
«Какой прекрасный у нее смех! — растроганно подумал Климов. — Только очень хорошие, чистые душой люди могут так смеяться!»
— А ты помнишь «Средь полей широких»?
— Вон что ты помнишь! Видно, и впрямь запали тебе в сердце ручьевские дни.
— И ночи.
— Вот ночей-то у нас с тобой не было. А жаль… — Она искоса, насмешливо посмотрела на Климова.
— Были и ночи, ты забыла.
— Разговоры… Да еще на приступочке целовались. И ничего у нас не было. А почему, Леша?
— Наверное, потому, что я любил тебя очень…
— Нет… Тут другое… Повернулось в тебе что-то или сломалось тогда, не знаю. Ну, дело прошлое… Слушай!
Средь полей широких я, как лен, цвела,
Жизнь моя отрадная, как река, текла.
В хороводах и кружках — всюду милый мой
Не сводил с меня очей, любовался мной.
И снова, как тогда, на переходе ко второй строфе сладко оборвалось в нем сердце и захотелось совершить какой-то добрый, жертвенный поступок. Боже мой, человек меняется до неузнаваемости, но что-то сохраняется в нем навечно, и это «что-то» уходит корнями в его подпочву, в основу основ. А Маруся стала петь еще лучше, голос у нее налился, заполнил грудь.
— Ты неправду сказала, что петь бросила.
— А я и не говорила. Я под гитару не пою. А так все время пою, особенно на ферме. Телята мой голос обожают.
Все подружки с завистью все на нас глядят, «Что за чудо-парочка!» — старики твердят…
И уже не спела, а проговорила с шутливым вздохом:
А теперь желанный мой стал как лед зимой
И все ласки прежние отдает другой…
— Вот уж чего нет так нет, — сказал Климов, но ему трудно было поддерживать этот шутливый тон.
Ему хотелось быть таким, каким он ощущал себя на самом деле: серьезным и печальным, ведь все происходящее было исполнено главной печали жизни — невосполнимой утраты времени. Ему хотелось, чтобы Маруся уехала с ним, но он не верил, что может сказать ей об этом. Она вела себя с ним так, будто прошлое не истратилось в ней до конца, она целовала его, говорила нежные слова, он чувствовал ее волнение, и все-таки сказать ей простое и вовсе не обидное: «Маруся, уедем со мной» — он не мог, в странной убежденности, что все сразу рухнет — доверие, откровенность, милая и любовная игра, в которую она пыталась его вовлечь. Наверное, трудно в минуту решиться на то, что откладывалось двадцать лет.