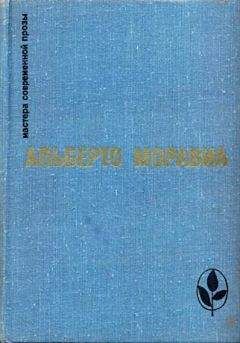Альберто Моравиа - Римлянка
Впрочем, иногда мне казалось, что он ненавидит не только свою собственную семью и свою среду, но всех людей на свете. Однажды, не помню уж по какому поводу, он заметил:
— Богатые люди ужасны… но и бедные тоже не лучше, хотя совсем по другим причинам.
— Ты скоро объявишь, — сказала я, — что вообще ненавидишь всех людей без исключения.
Он засмеялся и ответил:
— В принципе, когда я один, я не чувствую к людям ненависти… Вернее, моя ненависть почти совсем исчезает, и я начинаю верить, что люди постепенно становятся лучше… если бы я не верил в это, я не стал бы заниматься политикой… но, когда я нахожусь среди людей, они наводят на меня ужас. — И внезапно с искренней болью добавил: — Люди, по правде говоря, немногого стоят.
— Мы с тобой тоже люди, — сказала я, — и потому ничего не стоим и не имеем права их судить.
Он снова рассмеялся:
— Да я и не осуждаю их… я их чувствую… или, вернее сказать, чую… как собака чует след куропатки или зайца… разве собака может осуждать? Я чую коварство, глупость, эгоизм, мелочность, фальшь, грубость, невежество, всю низость людей… я их чую, это ведь чувство… а разве ты можешь отрицать это чувство?
Я не знала, что ответить, и ограничилась тем, что заметила:
— У меня такого чувства нет.
В другой раз он сказал:
— Впрочем, я не знаю, хороши или плохи люди… но они, это мне ясно, бесполезные и никчемные существа…
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я хочу сказать, что можно прекрасно обойтись без человечества… оно всего лишь безобразный нарост на теле земного шара… язва… земля выглядела бы куда лучше, если бы на ней не было людей, их городов, улиц, портов, их мелочной суеты… представь себе, как прекрасен был бы мир, если бы в нем остались только небо, море, деревья, земля, животные.
Я не могла удержаться от смеха.
— Какие странные идеи приходят тебе в голову!
— Человечество, — продолжал он, — не имеет ни начала, ни конца… но оно несет в себе резко отрицательные черты… история человечества — сплошная скучная ошибка… что толку в людях? Я прекрасно мог бы обойтись без них.
— Но ведь ты сам, — возразила я, — частица этого человечества… выходит, без тебя тоже можно обойтись?
— Без меня и подавно.
Была у него еще и другая навязчивая идея — идея воздержания, что казалось особенно странным, поскольку он не пытался применить ее на деле, и она служила ему лишь для того, чтобы отравлять себе жизнь. Он носился с этой идеей и как назло особенно охотно развивал ее сразу же после нашей близости. Он говорил, что любовь — это всего лишь глупый и самый легкий способ освободиться от всех сомнений, изгоняя их из себя низменным путем, вдали от чужого глаза, как через черный ход выпроваживают неугодных гостей.
— А когда дело сделано, мужчина вместе со своей партнершей — женой или любовницей — как ни в чем не бывало отправляется гулять, и они готовы мириться с жизнью, какой бы ужасной она ни была.
— Я тебя не понимаю, — сказала я.
— Хотя бы это ты должна понимать, — ответил он. — Это ведь твоя специальность.
Я обиделась и ответила:
— Моя специальность, как ты выразился, любить тебя… Но если тебе угодно, между нами не будет больше близости… а я все равно буду любить тебя.
Он засмеялся и спросил:
— Ты в этом уверена?
В тот день мы больше не говорили на эту тему. Но впоследствии он не раз возвращался к этому вопросу, и я в конце концов перестала обращать внимание на его слова и принимала их без возражений, так же как и некоторые другие черты его противоречивого характера.
О политике, если не считать кое-каких туманных намеков, он не говорил со мной. Я и по сей день не знаю, к чему он стремился, каковы были его убеждения, к какой партии он принадлежал. Это неведение отчасти объяснялось тем, что он держал в секрете эту сторону своей жизни, а отчасти тем, что я ничего не смыслила в политике и из робости и безразличия не пыталась получить у него сведения, которые просветили бы меня. Я поступала неправильно, и одному богу известно, как я впоследствии раскаивалась. Но тогда мне было удобнее не вмешиваться в его дела, которые, как я считала, меня не касаются, я думала только о любви. Одним словом, вела себя точно так, как ведут себя сплошь и рядом женщины, неважно, жены или любовницы, не подозревающие, как заработаны деньги, которые мужчины приносят им. Не раз мне приходилось встречаться с теми двумя друзьями Мино, с которыми он сам виделся чуть ли не каждый день. Но и они никогда не говорили о политике в моем присутствии: они либо шутили, либо вели разговор о всяких пустяках.
Однако во мне жил постоянный страх, ибо я понимала, что затевать заговор против правительства — дело опасное. Больше всего я боялась, что Мино пойдет на какое-нибудь открытое столкновение: по невежеству я не могла представить себе заговора без стрельбы и крови. Между прочим, я вспоминаю один случай, когда я, хоть и бессознательно, почувствовала, что должна вмешаться и предотвратить опасность, грозящую Мино. Я знала, что оружие иметь запрещено и что за незаконное ношение оружия можно в два счета угодить в тюрьму. Кроме того, Мино иногда легко теряет выдержку, а оружие часто подводило людей, которые могли бы спастись, не будь оно у них под рукой. Все это натолкнуло меня на мысль, что пистолет, которым Мино так гордился, был ему не только не нужен, хотя сам он утверждал обратное, но мог навлечь на него беду в том случае, если Мино будет вынужден пустить его в ход или если у него просто найдут этот пистолет. Но я не осмеливалась сказать ему об этом, потому что знала: наш разговор ни к чему не приведет. В конце концов я решила действовать тайком. Как-то раз он объяснил мне устройство пистолета. И однажды, пока он спал, я вынула из кармана брюк пистолет, вытянула обойму и разрядила ее. Затем вставила обойму на место и снова засунула пистолет в карман. А патроны спрягала под белье в ящик комода. Все это я проделала в мгновение ока, а потом улеглась возле Мино. Через два дня я положила патроны в сумочку, вышла из дома и выбросила их в Тибр.
Как раз в это время меня навестил Астарита. Я почти забыла о его существовании, считая, что сделала все от меня зависящее для спасения служанки, и не хотела больше возвращаться к этому. Астарита сообщил мне, что священник принес пудреницу в полицию и что хозяйка, заполучив свою вещь, сняла по совету полиции свое обвинение против служанки, которую признали невиновной и освободили из тюрьмы. Должна заметить, что известие это было мне особенно приятно, потому что рассеяло горький осадок, оставшийся у меня после той исповеди. Я думала теперь не об освобожденной служанке, а о Мино и решила, что после того как опасность доноса со стороны священника отпала, то ни мне, ни Мино теперь ничего не грозит. Поэтому не удержалась и радостно обняла Астариту.