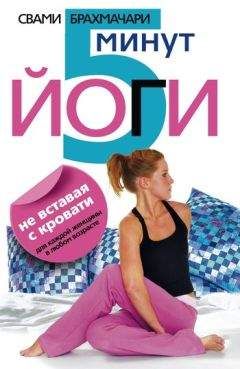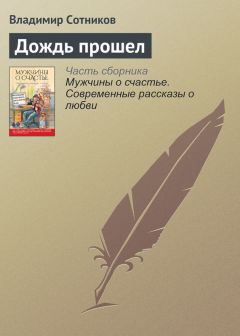Марина Степнова - Женщины Лазаря
Лидочка вскинула на него благодарные глаза и несколько раз кивнула головой, все еще украшенной белоснежным, страшным венчиком вилиссы.
Сосны были такие, что она видела их, даже не открывая глаз, — великолепные, наглые, воткнувшие тугие розовые тела прямо в низенькое, косматое энское небо. Пахло смолой, близким крупным снегом и подступающими сумерками, неясными, тихими, полными торжественного, почти колокольного собачьего перезвона.
Лидочка, по самое горло закутанная в клетчатый плед, сидела на террасе. Она проспала почти весь день, а проснувшись, обнаружила, что ее шопенка висит на плечиках, а в изножье кровати лежат аккуратно сложенные мужские джинсы и свитер. Конечно, рукава придется подвернуть, — пробормотал Лужбин, вскакивая, когда она вышла в гостиную, придерживая двумя руками спадающие джинсы, — а портки — это мы мигом… Он достал откуда-то ремень, шило, огромные портняжные ножницы и быстро провертел в ремешке нужные дырочки. А потом встал перед Лидочкой на колени и с аккуратным, осторожным хрустом обрезал джинсы так, чтобы они не волочились по полу. Руки у него мелко, но заметно дрожали.
Он напоил Лидочку бульоном, крепким, огненным, и долго извинялся, что из кубиков, зато горячий, Лидия Борисовна, готовить я не силен, уж простите, зато все остальное умею, не сомневайтесь. Давайте я вам дом покажу, а? Тут многое, конечно, не доделано, но в общем и целом… Лидочка поставила на огромный стол чашку и оглядела просторную кухню. Покажите, пожалуйста.
Дом оказался почти такой, как она мечтала, может быть, даже лучше, а главное, здесь было спокойно, так спокойно, что Лидочка вдруг поверила, что все события прошлого вечера, да вообще — вся ее прошлая жизнь — просто кошмарный сон, дурной морок, от которого она начинает медленно оправляться. Лужбин водил ее из комнаты в комнату, размахивая руками и горячась, а потом вытащил на террасу кресло-качалку, выдал Лидочке маленькие, почти детские валенки (тут в кладовой были, я не стал выбрасывать, жалко) и сам закутал Лидочку пледом. Вы посидите немножко, подышите, а я вам чаю принесу. Я чай хорошо завариваю, не волнуйтесь.
Лидочка уперлась валенком в доски террасы и легонько качнула кресло. Последний раз ее любили в пять лет — родители, — и она совсем забыла, как это бывает. Царевы были не в счет: по уши напичканные правильной советской моралью, полупереваренным самиздатом и природным добродушием, они любили всех подряд — родину, синиц, Энск, Солженицына, друг друга. Лидочка терялась в этом засахаренном вихре всеобщего неразборчивого обожания — это было все равно что греться в куче полузнакомых шевелящихся человеческих тел. Очень тепло, немного противно и совершенно безадресно. А вот Лужбину нравилась именно она, это было ясно даже по тому, как он нес ей чашку с чаем, как смотрел, как она пила, непроизвольно вытягивая губы, точно стараясь помочь или боясь, что она обожжется. Он заботился о ней. И это оказалось невероятное чувство — когда о тебе заботятся. Теплое.
Лужбин, словно притянутый этими мыслями, заглянул на террасу.
— Ничего не нужно? — спросил он. — Вы, наверно, проголодались? Можем съездить куда-нибудь поужинать.
И он даже слегка втянул голову в плечи, боясь отказа.
— Иван Васильевич, отнесите меня, пожалуйста, в дом, — попросила Лидочка.
Лужбин посмотрел на нее почти с животным ужасом — словно дворняга (тощая, вся в обручах голодных ребер), со щенячества привыкшая получать только окрики да тяжелые пинки и теперь не узнающая ласковую человеческую руку.
— В дом? — переспросил он хрипло.
— Да, пожалуйста, — повторила Лидочка и протянула ему выпростанные из-под пледа руки.
Лужбин неловко подхватил ее, и Лидочка машинально, как на поддержке, напрягла мышцы, чтобы облегчить партнеру нелегкую лирическую участь. Она была «удобная» балерина и никогда не висла на руках танцовщика безучастным грузом, безвольным суповым набором из жил, костей и колючего наэлектризованного капрона, который следовало вознести на вытянутых руках в ликующую высь — поближе к пыльному театральному потолку, искусственным звездам и сонным мордам осветителей, навеки охреневших от нескончаемых потоков прекрасного. Но Лужбин не заметил Лидочкиных мускульных стараний, пораженный ее эльфийской невесомостью — даже в валенках, даже по-кукольному закутанная в плотный плед, она едва весила сорок пять килограммов.
— Какая легонькая… Как цветок, — пробормотал Лужбин, прижимая Лидочку к себе, как прижимают больного ребенка, ослабевшего, горячечного, полуобморочного от ночной несусветной температуры. Как будто отправляешь в больницу десятилетнюю дочку.
Три шага до входной двери. Четыре невидимых, тряских лестничных пролета — впереди угрюмая спина уставшего врача, не уронить, не уронить, не… чшшш, потерпи, солнышко, сейчас все пройдет. Бессильный пинок подъездной двери — придержать плечом, чтоб не стукнула, не задела. Распахнутая задница старенькой скорой, ледяное, дрожащее нутро. Не плачь, заинька, папа рядом. Он никогда тебя не бросит. Я никогда тебя не брошу. Слышишь? Никогда.
Лидочка, словно услышав этот страх, вдруг обняла Лужбина за шею, ткнулась носом куда-то между ключицей и плечом так, что он почувствовал совсем близко, почти на своей коже, ее нежные, прохладные губы.
— Лидия Бо… Лидушка, — сказал он сдавленно, прижимая ее к себе.
Один маленький валенок упал еще на террасе, второй — в гостиной, но оба они этого не заметили, пораженные тем, что оказались так близко друг другу, — еще несколько часов назад совершенно чужие друг другу, едва знакомые люди.
А потом у Лужбина вдруг оказалось сто рук, и все сто были одновременно всюду, путаясь в пуговицах, рукавах, каких-то неожиданных лямках. И еще он все время бормотал — девочка моя, девочка, девочка, девочка моя — мягкими, горячими, мокрыми губами, и губы тоже были всюду, так что зажмурившейся Лидочке на секунду показалось, что Лужбин сейчас просто проглотит ее — всосет с тихим чмокающим звуком, будто макаронину, пропитанную жирным сырным соусом. Она попыталась было помочь, но честно не знала, что нужно делать, и потому просто, как ребенок, поднимала руки и сгибала коленки, чтобы было удобнее стягивать никак не прекращающуюся одежду, а Лужбин все бормотал — девочка, девочка, — и тут одежда на них двоих наконец закончилась, и Лидочка вдруг всей кожей ощутила чужое голое тело — горячее, тяжелое, местами неприятно колючее, словно шерстяное.
От страха и неожиданности она открыла глаза и в миллиметре от себя увидела лицо Лужбина, почти сумасшедшее от непонятного ей напряжения, с распухшими, будто размытыми, расплывшимися губами. Лидочка поймала взглядом громадную морщину на мокром лбу, рыжеватую щетину, невидящие зрачки, щетку коротких бесцветных ресниц, слюну, кипящую в уголке шевелящегося рта — и тут же зажмурилась снова, вся покрывшись мгновенной сизой пупырчатой гусиной кожей.