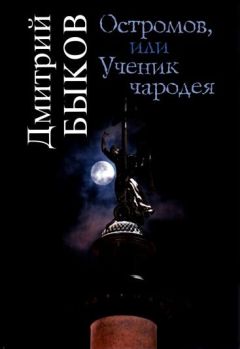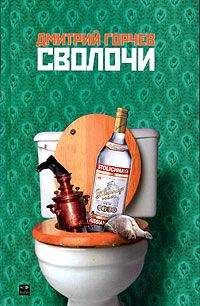Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
— По какому праву… — прошептал Поленов.
— По врожденному, — буркнул старик. — Еще чего удумал тут. Твои права все кончились. Кто меня встретил, у того теперь одно право — делай, чего я говорю. Стоит больной человек, шатаясь. Смотрит на него и говорит: прости, но твой брат умрет. Умрет твой брат, и ничего ты не сделаешь. И побежал вниз. Тот выглянул из окна — а этот молодой человек уходит, как пьяный, и ноги у него заплетаются. Идет вот так, — старик прочертил зигзаг по столу. — Надо ли говорить, что брат умер? Очень скоро? Почти в тот же день? Теперь спросим себя: что это было?
— Что? — повторил Поленов, как под гипнозом.
— Я же тебя спрашиваю, — невозмутимо сказал старик, пожирая селедку.
— Я не знаю, — прошептал Поленов.
— А я знаю, — с торжеством проговорил старик. — Я все знаю. И кому надо, все знают. Есть, например, такие некоторые отцы, которые сожительствуют со своими дочерьми.
Поленов вскочил и рухнул обратно на табуретку.
— Вы не смеете, — сказал он, задыхаясь. — Вы не имеете.
— А что такого, очень обычно, — невозмутимо говорил ужасный, все более ужасный. И ужасно темно было уже снаружи. — Сожительствуют с дочерьми, растлевают в детстве. Потом, когда дочери с другими, то, конечно, очень огорчаются. Ничего, между прочим, ужасного, считалось нормой у арабов. Но только не надо потом другим голову морочить. Сам растлил, сам сожительствовал, сам потом притопил из ревности или еще как-нибудь убил, а потом ходит людям голову морочит. Тебе спасибо надо сказать, что с тобой люди занимаются. А ты им гадишь, это как называется?
— Егор! — слабо вскрикнул Поленов. — Егор, уберите это… этого…
— А что такого?! — закричал старец, и сырым мясом запахло оглушительно. — Ты купил это, что ли, место? Ты права не имеешь! Егор, скажи, он имеет право?
Егор вяло пробурчал что-то и не пошевелился.
— Ты с дочерью жил! — крикнул старик. — Кому надо, все про тебя знают. Ты в ножки должен кланяться, что нашелся человек с тобой возиться, а ты тварь неблагодарная и дочери растлитель. Ты девочек любишь, по дворам отлавливаешь и любишь… Держите его все, он ловит девочек по дворам!
Поленов вскочил и, подхватив автоматически портфель, стремительно побежал наружу, в дождь.
— Он дочь изнасиловал, — доверительно сказал старик Егору. — Ты слыхал?
— А мне чего, — сказал Егор, — дочь не моя.
— И то правда, совершенная правда, какой ты человек разумный, — кивнул старик. — Настоящая гадина, говядина. У тебя перед носом будут резать человека — ты не чухнешься. Налей мне теперь еще стакан и дай чаю, мне все нравится.
Одинокий любил такую погоду и обстановку.
— А чего ж, — сказал Егор.
— Вот-вот. Он там сейчас побегает, а около дома ему Блументаль еще добавит. Я ему сказал в подворотне стоять, он ему предложит к девочке пройти к мертвой. Хорошо придумал, да?
Егор в знак одобрения шмыгнул носом.
— Животное ты, и все люди такие, — одобрительно сказал Одинокий. Одинокий был утешен, ему Остромов дал пятьдесят рублей. Когда-нибудь сделаем гадость и Остромову, гадине. Дал пятьдесят рублей старому приятелю, поэту, которому недостоин копчик целовать. Но сейчас и пятьдесят рублей было хорошо. Остромов оделся отлично, стал вальяжен. Теперь Одинокий кое-что про него знал, все в копилку, и это утешало его вдвойне.
— А что ж, — сказал Егор. — И то верно.
— Мертвая девочка, — сказал Одинокий мечтательно. — Хорошо, да? Сам придумал. С девочкой было, с мертвой не было. А остальное очень просто ведь делается: перескажешь человеку пару историй из того, про что в очередях говорят, — и действует! Видел, как действует? Теперь в очередях рассказывают такое, что раньше бы никакой Гофман не выдумал. — Одинокий был настроен поговорить, как всегда при удаче. — Удивительно стало много всяких этих историй, какими можно человека в правильный момент сломать пополам… А чего еще делать с человеком, правильно я говорю?
— И то, — сказал Егор.
— Гадина, гнида, и все животные, и никого больше, — сказал Одинокий. — Ломать и топтать, всех в дробилку. И ноги вытереть.
Пока он все это говорил, Поленов бежал по страшным улицам под страшным небом. Оно впереди сходилось треугольником и падало на землю, как нож гильотины. Что-то ломалось, переламывалось, что-то, после чего все пойдет вниз. Поленов никогда не растлевал дочь, вообще никогда никого, но теперь уже не был в этом уверен. Пришел знающий о нем худшее. Встреча со знающим худшее всегда невыносима. Он придет, и мы сделаем все, что он скажет. Мы никогда не поверим знающему лучшее, но всегда согласимся со знающим худшее, потому что втайне догадываемся о том же. Мы животные, нам нет прощения. И когда наихудшее животное скажет нам наихудшие слова, мы поверим ему.
А в подворотне напротив дома ждал его Блументаль. Одинокий знал, что первый удар надламывает, а второй добивает. Он не зря взял свои пятьдесят рублей и не просто так теперь утешался.
— Поленов! — мрачно сказал трясущемуся Константину Исаковичу утонченный бородатый юноша, выходя из подворотни. Он был бледен капустной бледностью кокаиниста. — Не хотите мертвую девочку? У меня есть. Будет вам как дочь.
4Оставалась одна проблема, и не проблема даже, а так. У Клингенмайера томились реликвии, а также кое-какие записи, возобновить сведения было негде, запас идей у Остромова иссякал. Можно было, разумеется, и дальше врать про эоны. Но по-морбусовски не выдумаешь, а в сундуке лежали записи, которых хватило бы морочить публику еще на полгода, кабы не больше. Самому идти не хотелось. Надо было послать человека — и такого, который убедит.
Первая его мысль была: Мартынов. От этого прямо-таки волнами наплывала уверенность. Но Мартынову пришлось бы все объяснять, он был из тех, кто не принимает на веру. Иному скажешь — «Мне должны», «Мне нужно», — и он пошел. Дробинин? Зачитает стихами, замучает, озлобит Клингенмайера пуще прежнего. Наконец он решился: Галицкий. Хоть шерсти клок.
Галицкий был удивительно бездарен во всем, что касалось жизни с людьми: не умел, не понимал — что кому говорить, а что не надо. Остромов ведь не просто брал с них деньги. Он кое-чему учил, и это, может, было поважней всякой алхимии. Это была алхимия духа в высшем смысле, та, которую он все собирался записать. И кто умел бы ее воспринять, отбросив маскарад с заклинаниями и стражами порога, тот многому мог научиться — как говорить, выглядеть, располагать к себе; от Остромова многое можно было воспринять, если хотеть. Но Галицкий ничего воспринять не мог. Такие воспринимают, только если их долго бить по голове, и то еще иногда считают это за рыцарское посвящение. Главное же, что и грабить такого человека не доставляло никакого удовольствия, и за это Остромов не любил Галицкого особенно. Когда ты с женщиной, женщина должна либо стонать от наслаждения, либо плакать от стыда, либо хоть царапаться, но как-нибудь шевелиться. А когда она только смотрит влюбленными глазами, на третьей минуте становится скучно и можно даже расхотеть, приходится уже кого-нибудь вспоминать.
— Вы достигли столь значительных успехов, пророк Даниил, — сказал Остромов, — что я поручаю вам действительно серьезную вещь.
Даня радостно заулыбался.
— Вам нужно будет забрать у Одного Человека, — Остромов выделил эти слова поднятием бровей, — вещи, принадлежащие мне. Сам я приходил к нему, мы повздорили, и он взял отсрочку на два месяца. Время подходит. Я к нему являться не хочу, ибо он оскорбил меня. Посылаю вас.
— Мне точно не даст, — сказал Даня, сразу погрустнев. — Я гожусь носить тяжести, Борис Васильевич, но добывать — увольте.
— Я сам знаю, когда и от чего вас уволить, — сказал Остромов, не приняв шутки. — Это ваше поручение, и вы с ним справитесь. Забирать ничего не нужно, я на извозчике привезу. Но спросить, как и что, я доверяю вам. Отправляйтесь завтра же.
И он написал своими длинными острыми буквами адрес лавки на углу Лахтинской и Большого.
Даня был готов увидеть злобного толстяка или, напротив, Кащея, чахнущего над златом, но Клингенмайер оказался похож на джинна из сказки про ученика. Даня не хотел бы стать врагом этого серьезного человека, а другом его стать не мог — зачем он такому?
— Я пришел от Бориса Васильевича Остромова, — сказал он, смущаясь. — Он просил узнать…
— Я сказал Борису Васильевичу, что дам ему знать, — недовольно произнес Клингенмайер. Он стоял среди своих полок и стеллажей в видимой части лавки, а за его спиной колебалась, словно от дыхания, темно-багровая занавесь, уводящая, должно быть, в еще более странный мир. — Почему он присылает третьих лиц? Вы ученик его?
Даня кивнул, полный решимости не дать учителя в обиду.
Клингенмайер помолчал, разглядывая его.
— И чем вы у него занимаетесь, если позволено спросить?