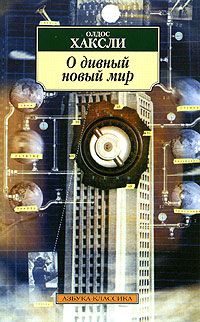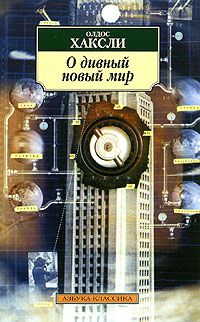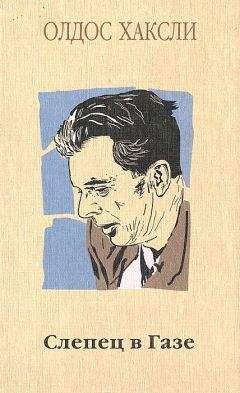Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
Я не думаю, что моего политического благоразумия было достаточно, чтобы взволновать меня, но правда заключалась в том, что я испытал похожий рецидив, как и раньше. Я почувствовал себя таким взбудораженным, что моим единственным развлечением было встречать рассвет песнями с пьяницами в крепости Лас Боведас, где во время Колонии были солдатские бордели, а позже зловещая политическая тюрьма. Генерал Франсиско де Паула Сантандер находился там в заключении на протяжении восьми месяцев, прежде чем быть сосланным в Европу из-за товарищей по идеалу и по оружию.
Надзиратель тех исторических останков был линотипистом на пенсии, чьи активные коллеги объединялись с ним каждый день после рассылки газет, чтобы отметить новый день бутылкой подпольного белого рома, приготовленного благодаря искусству мошенников. Они были печатниками, просвещенными благодаря семейным традициям, впечатляющие лингвисты и большие субботние выпивохи. Я стал одним из их сообщества.
Самого молодого из них звали Гильермо Давила, и ему удалось совершить подвиг, работая на побережье, несмотря на принципиальность некоторых региональных лидеров, которые не желали впускать в сообщество галантных молодых франтов. Возможно, он этого добился благодаря искусству своего искусства, ну и, кроме того, своему хорошему ремеслу и своему личному обаянию, он был магом чудес. Он нас постоянно поражал магическими проказами, заставляя вылетать живых птиц из выдвижных ящиков письменных столов или делая белой бумагу, на которой была написана редакционная статья, которую мы только что сдали в день сдачи тиража. Маэстро Сабала, настолько строгий в долге, забывал на какое-то время о Падеревском и пролетарской революции и просил аплодисментов для мага, всегда с повторяющимся и не выполняемым обещанием, что это будете последний раз. Для меня разделить с волшебником рутину дня было как обнаружить наконец реальность.
В один из таких рассветов в Лас Боведас Давила рассказал мне о своей идее делать газету двадцать четыре на двадцать четыре полчетверти типографского листа, которая бы раздавалась днем в самый многолюдный час закрытия магазинов. Это будет самая маленькая газета в мире, чтобы прочитать ее за десять минут. Так и было. Она называлась «Компримидо», я писал ее за один час в одиннадцать утра, набирал и печатал ее Давила за два часа, и ее разносил отважный продавец газет, у которого не хватало дыхания, чтобы громко расхваливать ее больше одного раза.
Она вышла во вторник, 18 сентября 1951 года, и невозможно достичь успеха более полного и более короткого: три номера за три дня. Давила мне признался, что даже с черной магией невозможно было замыслить идею такую большую по такой низкой цене, которая помещалась бы на таком маленьком пространстве, выполнялась бы за такое маленькое время и исчезла бы с такой скоростью. Самым странным было, что на какое-то время, на второй день, взбудораженный уличной потасовкой и жаром фанатиков, я начал думать, что таким простым мог быть исход моей жизни. Сон продлился до четверга, когда управляющий нам доказал, что еще один номер нас приведет к краху, даже если мы решим печатать коммерческие объявления, поскольку они будут настолько маленькими и настолько дорогими, что это не будет разумным решением. Сама идея газеты, которая основывалась на ее размере, влекла за собой математический зародыш ее собственного разрушения: была настолько более нерентабельной, насколько больше продавалась.
Я остался в дураках. Переезд в Картахену был своевременным и полезным после опыта «Кроники» и к тому же дал мне более подходящую обстановку для того, чтобы продолжать писать «Палую листву», и прежде всего для творческого порыва, с которым жилось в нашем доме, где самое необычное казалось всегда возможным. Мне было достаточно вспомнить обед, на котором мы разговаривали с отцом о сложностях многих литераторов в написании своих воспоминаний, когда уже ничего не вспоминается. Куки, которому исполнилось едва шесть лет, сделал заключение с поучительной простотой.
— Тогда, — сказал он, — первое, что писатель должен написать, — это его воспоминания, когда он еще все помнит.
Я не осмелился признаться, что с «Палой листвой» со мной случилось то же самое, что и с «Домом»: меня интересовала больше не тема, а техника. После года работы с такой радостью она мне раскрылась как бесконечный лабиринт без входа и выхода. Сейчас я думаю, что знаю почему. Бытописательство, которое подарило такие хорошие примеры обновления в самом начале, закончилось тем, что остановило в развитии великие национальные вопросы, которые пытались найти чрезвычайные выходы. Дело в том, что я не терпел больше одной минуты неясности. Мне только не хватало проверок сведений и стилистических решений до финальной точки, и тем не менее я не чувствовал, что повесть дышала. Но я был настолько заторможенный после столь-кого времени работы во мраке, что видел, как книга терпела крах, не зная, где пробоины. Худшим было то, что на этой стадии письма мне не могла понадобиться ничья помощь, потому что щели находились не в книге, а внутри меня, и только я мог иметь глаза, чтобы увидеть их, и сердце, чтобы их выстрадать. Возможно, по этой самой причине я приостановил работу с «Ла Хирафой», много не думая о том, когда я закончу выплачивать «Эль Эральдо» аванс, на который я купил мебель.
К несчастью, ни ума, ни стойкости, ни любви не было достаточно, чтобы победить нищету. Все, казалось, было в ее пользу. Организация статистической переписи закончилась в течение года, и моей зарплаты в «Эль Универсаль» не хватало, чтобы ее компенсировать. Я не вернулся на юридический факультет, несмотря на уловки некоторых преподавателей, которые сговорились, чтобы получить меня вперед вопреки моей незаинтересованности, ради своего интереса и своей науки.
Денег не хватало в доме, но недостача была настолько большой, что моего вклада не было достаточно никогда, и отсутствие иллюзий меня задевало больше, чем отсутствие денег.
— Если мы все должны утонуть, — сказал я во время обеда в один из решающих дней, — позвольте мне спасти себя, чтобы попытаться прислать вам хотя бы лодку с веслами.
В первую неделю декабря я переехал снова в Барранкилью, оставив всех в смирении и уверенности, что лодка приплывет. Альфонсо Фуэнмайор должен был представить себе это с первого взгляда, как увидел меня входящим без объявления в наш старый офис в «Эль Эральдо», поскольку офис «Кроники» остался без средств. Он посмотрел на меня как на призрак, сидя за печатной машинкой, и воскликнул, обеспокоенный:
— Какого черта вы делаете здесь без предупреждения? Не много раз в жизни я отвечал что-то, настолько близкое к правде:
— Меня это затрахало по яйца. Альфонсо успокоился.
— А, хорошо! — ответил он в своей обычной манере и очень колумбийской строкой из национального гимна. — К счастью, такова вечная человечность, которая стонет в цепях.
Он не проявил и малейшего любопытства по поводу причины моего приезда. Это ему показалось удачным предчувствием, потому что всем, кто обо мне спрашивал в последние месяцы, он отвечал, что меня можно застать в любой момент. Он, надевая пиджак, поднялся счастливый из-за письменного стола, потому что я приехал случайно, как упал с неба. Он уже на полчаса опаздывал выполнить одну договоренность, не закончив статью на следующий день, и попросил меня, чтобы я ее закончил. Едва я успел спросить его, какой была тема, он мне ответил из коридора поспешно, с характерной небрежностью в духе нашей дружбы: — Прочитай это и увидишь.
На следующий день снова были две печатные машинки напротив друг друга в офисе «Эль Эральдо», и я снова писал «Ла Хирафу» на той же странице, что и всегда. И разумеется, по той же цене! И в тех же личных (семейных, приватных) условиях (положениях, обстановке, обстоятельствах) между Альфонсо и мной, когда многие статьи были в разделах одного или второго и было невозможно различить их. Некоторые студенты журналистики или литературы захотели провести между ними различие в архивах, но не достигли успеха — за исключением случаев особенных выпуклостей (дословно: архитектурных выступов), но не за счет стиля, а за счет культурной (общеобразовательной) информации.
В «Эль Терсер Омбре» меня расстроила плохая новость о том, что убили нашего друга-воришку. В эту ночь, как и во все другие, он вышел сделать свое дело, и единственное, что снова стало о нем известно без особых подробностей, что ему выстрелили в сердце в доме, который он грабил. На тело претендовала только старшая сестра, единственный член семьи, и только мы и хозяин таверны присутствовали на его похоронах из милосердия.
Я снова вернулся в дом лас Авила. Мейра Дельмар, снова соседка, продолжала очищать своими болеутоляющими вечеринками мои дурные ночи «Эль Гато негро». Она и ее родная сестра Алисия казались близнецами по своему поведению и по желанию того, чтобы время возвращалось к нам по кругу, когда мы были с ними. Каким-то образом, очень особенным, мы сохраняли группу друзей. По крайней мере один раз в год нас приглашали к столу с арабскими изысканностями, которые нам питали душу, и в их доме были внезапные вечера с выдающимися гостями — от больших артистов любого жанра до заблудившихся поэтов. Мне кажется что именно они с маэстро Педро Вьябой придали порядок моей сбившейся с пути меломании и зачислили меня в счастливый союз артистического центра.