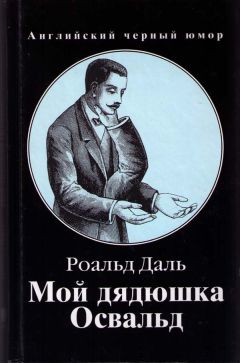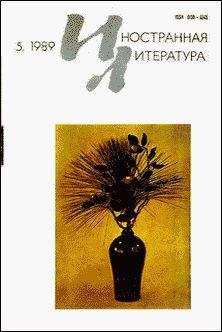Роальд Даль - Дорога в рай
— Конечно, восстановится! Он будет лежать в сосуде, и все мыслительные процессы будут протекать, как и прежде, а память…
— И я не буду иметь возможности видеть, чувствовать, ощущать запахи, слышать или говорить? — спросил я.
— Ага! — воскликнул он. — Я знал, что что-то забуду тебе сказать! Я не сказал тебе о глазе. Слушай. Я хочу попробовать оставить один из твоих зрительных нервов нетронутым, как и сам глаз. Зрительный нерв — маленькая штука толщиной примерно с клинический термометр, он имеет дюйма два в длину и тянется от мозга к глазу. Вся прелесть его в том, что он и не нерв вовсе. Это отросток самого мозга, а внешняя мозговая оболочка тянется вдоль него и соединяется с глазным яблоком. Поэтому задняя часть глаза находится в очень тесном контакте с мозгом, и спинномозговая жидкость подходит прямо к нему… Все это вполне отвечает моим целям, и разумно предположить, что я смогу добиться того, чтобы сохранить один из твоих глаз. Я уже сконструировал небольшой пластиковый футляр для глазного яблока вместо глазной впадины, и, когда мозг окажется в сосуде, погруженном в раствор Рингера, глазное яблоко будет плавать на поверхности жидкости.
— Глядя в потолок, — сказал я.
— Думаю, что да. Боюсь, что мышцы, которые бы двигали им, не сохранятся. Но это, должно быть, так забавно — лежать тихо и спокойно и поглядывать на мир из сосуда.
— Безумно забавно, — сказал я. — А как насчет того, чтобы оставить мне еще и ухо?
— С ухом я не хотел бы экспериментировать.
— Я хочу ухо, — сказал я. — Я настаиваю на том, чтобы слышать.
— Нет.
— Я хочу слушать Баха.
— Ты не понимаешь, как это трудно, — мягко возразил Лэнди. — Аппарат слуха — он называется улитка — гораздо более тонкое устройство, чем глаз, и он заключен в кость. Как и часть слухового нерва, которая соединяет его с мозгом. Мне никак не удастся извлечь его целиком.
— А ты не можешь оставить его заключенным в кости и поместить в таком виде в чашу?
— Нет, — твердо сказал Лэнди. — Эта штука и без того сложная. Да в любом случае, если глаз будет функционировать, не так уж и важно, слышишь ты или нет. Мы всегда сможем показывать тебе сверху послания, которые ты мог бы прочитать… Ты должен оставить мне право решать, что можно сделать, а что нет.
— Я еще не сказал, что согласен.
— Я знаю, Уильям, я знаю.
— Не уверен, что мне очень нравится твоя идея.
— Ты бы предпочел совсем умереть?
— Пожалуй, что так. Пока не знаю. А говорить я тоже не смогу?
— Конечно, нет.
— Тогда как же я буду общаться с тобой? Как ты узнаешь, что я нахожусь в сознании?
— Мы легко узнаем, вернулось ли к тебе сознание, — сказал Лэнди. — Нам подскажет обыкновенный электроэнцефалограф. Мы подсоединим электроды к передним долям твоего мозга — там, в сосуде.
— Вы это действительно узнаете?
— О, наверняка. Такое по силам любой больнице.
— Но я ведь не смогу с тобой общаться.
— По правде говоря, — сказал Лэнди, — мне кажется, что сможешь. В Лондоне живет один человек, которого зовут Вертхаймер,[65] так у него есть интересные работы в области передачи мысли на расстояние. Я с ним уже связывался. Тебе ведь известно, что мозг в процессе мыслительной деятельности испускает электрические и химические разряды? И что эти разряды исходят в виде волн, похожих на радиоволны?
— Кое-что мне известно, — сказал я.
— Так вот, Вертхаймер сконструировал аппарат, напоминающий энцефалограф, хотя и гораздо более чувствительный, он утверждает, что в определенных, ограниченных пределах сможет интерпретировать то, о чем думает мозг. Аппарат выдает что-то вроде диаграммы, которая, по-видимому, расшифровывается. Хочешь, я попрошу Вертхаймера зайти к тебе?
— Нет, не надо, — ответил я.
Лэнди уже считал само собой разумеющимся, что я буду участвовать в эксперименте, и мне это не нравилось.
— Теперь уходи и оставь меня одного, — сказал я ему. — Ты ничего не добьешься, если будешь действовать наскоком.
Он тотчас же поднялся и направился к двери.
— Один вопрос, — сказал я.
Он остановился, держась за дверную ручку.
— Да, Уильям?
— Просто я хотел спросить вот что. Сам-то ты искренне веришь, что, когда мой мозг окажется в сосуде, он сможет функционировать точно так же, как сейчас? Ты веришь, что я смогу по-прежнему думать и рассуждать? И сохранится ли у меня память?
— А почему бы и нет? — ответил он. — Это ведь будет тот же мозг. Живой. Невредимый. Да по сути совершенно не тронутый. Мы даже не вскроем твердую оболочку. Мы, правда, отделим все до единого нервы, которые ведут к нему, кроме глазного, а это означает, что на твой мыслительный процесс больше не окажут никакого влияния чувства, этим он и будет отличаться, притом значительно. Ты будешь жить в необычайно чистом и обособленном мире. Ничто не будет тебя беспокоить, даже боль. Ты не будешь чувствовать боли, потому что у тебя не останется нервов. Состояние в своем роде почти идеальное. Ни тревоги, ни страхов, ни боли, ни голода, ни жажды. И никаких желаний. Только твои воспоминания и твои мысли, а если случится, что оставшийся глаз будет функционировать, то ты и книги сможешь читать. По мне, все это весьма приятно.
— Вот как?
— Да, Уильям, именно так. И особенно это приятно доктору философии. Грандиозное испытание. Ты сможешь размышлять о мире с беспристрастностью и безмятежностью, не доступными ни одному человеку! Великие мысли и решения могут прийти к тебе, смелые мысли, которые изменят нашу жизнь! Попытайся, если можешь, представить себе, какой степени духовной концентрации ты сумеешь достигнуть!
— И какой безысходности, — сказал я.
— Чепуха. О какой безысходности ты говоришь? Не может быть безысходности без желаний, а их у тебя не будет. Во всяком случае, физических.
— Я наверняка смогу сохранить воспоминание о своей предыдущей жизни в этом мире, и у меня может возникнуть желание вернуться к ней.
— Что, в этот кавардак? Из твоего уютного сосуда в этот сумасшедший дом?
— Ответь мне еще на один вопрос, — попросил я. — Сколько, по-твоему, ты сможешь поддерживать его в живом виде?
— Мозг? Кто знает. Может, долгие годы. Условия ведь будут идеальные. Кровяное давление будет оставаться постоянным всегда, что в реальной жизни невозможно. Температура также будет постоянной. Химический состав крови будет почти совершенным. В ней не будет ни примесей, ни вирусов, ни бактерий — ничего. Глупо, конечно, гадать, но я думаю, что мозг может жить в таких условиях лет двести-триста… А теперь до свиданья, — заключил он. — Я загляну завтра.
Он быстро вышел, оставив меня, как ты можешь догадаться, в весьма тревожном душевном состоянии.
Я сразу ощутил отвращение ко всей этой затее. Что-то мерзкое было в идее превратить меня в скользкий шарик, лежащий в воде, пусть при мне и останутся мои умственные способности. Это было чудовищно, непристойно, отвратительно. Еще меня беспокоило чувство беспомощности, которое я должен буду испытывать, как только Лэнди поместит меня в сосуд. Оттуда уже нет пути назад, невозможно ни протестовать, ни пытаться что-либо объяснить. Я буду в их руках столько, сколько они смогут поддерживать меня живым.
А если, скажем, я не выдержу? Если мне будет ужасно больно? Вдруг я впаду в истерику?
Ног у меня не будет, чтобы убежать. Голоса не будет, чтобы закричать. Ничего не будет. Мне останется лишь ухмыльнуться и терпеть все это последующие два столетия.
Да и ухмыльнуться-то я не смогу — у меня ведь не будет рта.
В этот момент любопытная мысль поразила меня. Разве человек, у которого ампутировали ногу, не страдает частенько от иллюзии, будто нога у него есть? Разве не говорит он сестре, что пальцы, которые у него отрезали, безумно чешутся, и всякое такое?.. Не будет ли страдать от подобной иллюзии и мой мозг в отношении моего тела? В таком случае на меня нахлынут мои старые боли, и я даже не смогу принять аспирин, чтобы облегчить страдания. В какой-то момент я, быть может, воображу, будто ногу у меня свело мучительной судорогой или же скрутило живот, а спустя несколько минут я, пожалуй, запросто решу, будто мой бедный мочевой пузырь — ведь ты меня знаешь — так наполнился, что, если я немедленно не освобожу его, он лопнет.