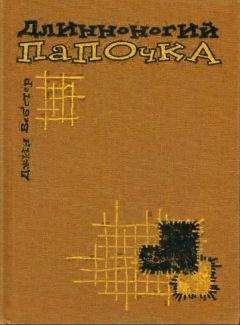Борис Цытович - Праздник побежденных: Роман. Рассказы
— Они пришли, они все слышат, они все видят. Этого гоям мало, гоям нужна еще и рыба. А я не желаю, я ухожу.
— Скатертью дорога, Нудельман, крысы с корабля бегут, — съязвила красавица Акралена Петровна.
— Карающий, скажи этим — с корабля, который тонет.
Нудельман ушел. В кабинете среди предметов истертых и казенных, среди гомонящих людей почему-то стало пустынно. Феликс увидел себя со стороны одиноким и торжествующим и вспомнил, как убеждал Марию Ефимовну, что предчувствие — ложь и ничего в степи не случится, и пастух придет. Сейчас он неожиданно уверовал, что нет более в живых Афанасия Лукича, и страстно пожелал выскочить во двор на воздух, чтобы не слышать человеческие голоса, и помчаться на берег к Марии Ефимовне. Но что-то серьезное и обязательное мешало. Он понял. Он верит Нудельману. Если не Нудельман, то кто? Не наша ли раскрасавица Акралена Петровна со своими дебелыми телесами? Не я ли, обласканный конторскими, торжествующий вместе с ними? А как же факты? Я видел собственными глазами сломанный на шестеренке зуб. Надо все проверить. «Надо», это проклятое «надо», ломающее эмоциональный порыв, делающий человека и казенным, и, как он сам себя считает, умным и волевым. Но почему Нудельман всей сутью своей просто кричит о стариках? Конечно, старики, конечно, Мария Ефимовна. Но поездка к старикам потом. Они простят. Вера?..
Веру я обязательно встречу, я пообещал капитану — но чуть позже. А сперва надо проверить, что это за автомобиль, — так уж я устроен. Опять это проклятое «надо». Но Феликс догадывался, что ухватился за военную машину, чтобы протянуть время, и все оттого, что боится встретить Веру, боится узнать правду о докторе и потерять последнюю надежду.
* * *Утром трезвый Феликс наметил точки наблюдения — пару чердачных окон, оттуда была видна машина сверху, зарешеченное окно прямо у колеса в мастерской сантехника — и стал выслеживать военных.
О машине посудачили и привыкли, будто она ржавела сто лет у кучи металлолома. С военными перезнакомились и считали за членов коллектива, и они, побродив по фабрике, нашли свои места. Сержанта приодели в куртку и фартук, он постоянно маячил на складе, и Клава, складская бригадирша, квадратноголовая и коренастая, которую никто из мужчин не удостаивал взглядом, расцвела. Она ходила теперь в голубом шелковом платье под новым халатом, благоухая французскими духами, волосы были зачесаны в огромный лакированный узел, отчего голова казалась более объемистой, а сама Клавка более низкорослой, но глаза ее лучились счастьем, и она была красива. Сержант, улучив минуту, когда склад пустел, лапал Клавку в резиновой вони на паках каучука. Потом сержант деловито следовал к проходной, гимнастерка на спине топорщилась, и еще пара кед исчезала с фабрики. Это Феликс видел с чердачного окна, и хотя сам ни одной пары с фабрики не вынес, размышлял: кеды на животе выносить надо, затянув пояс, да так, чтоб дышать было больно, да спина у него напряжена, будто шкворень проглотил. Кричит, кричит спина. А зимой кеды нужно привязывать к голени, обтянув кальсонами.
— А вот Вера, моя Вера никогда бы так не поступила, понимаешь, врут, — жаловался он изумрудному паучку в серебристой паутине, — лгут казнокрады, — и страстно желал, чтобы Нудельман оказался прав, чтобы наконец они приехали, чтобы разогнали сброд.
Но солдат вернулся, и Феликс отметил: кеды удачно сбыты в Манькином магазинчике — в кульке банка, бублик и бутылка. Парень не промах, но чекистом от него и не пахнет.
Второй сержант был весь в саже, около него вертелась, меняя наряды и все увеличивая декольте, Акралена Петровна.
Наконец вечером сержант в гражданском костюме с чужого плеча перемахнул у кочегарки через забор. В такси за углом его поджидала Акралена Петровна. Двое молодых то стояли часовыми у машины, то слонялись по двору, то, раззявя рты, разглядывали «Ганса», слушая его утробные удары, то спали в кочегарке на скомканном матрасе — солдат спит, служба идет.
Феликс все-таки отметил, что Нудельман сорок минут находился на складе, а всей фабрике было известно: Нудельман и кладовщик-философ — враги. Потом философ выкатил тачку с ржавым хламом, пересек двор и вывалил хлам в кучу металлолома рядом с пожарным бассейном, потом и лысоголовый, и босой долго копались там в крапиве.
Это более удивило: Феликс знал, философ — редкий скряга, по всей фабрике отыскивал утильные детали и как навозный жук волочил на склад. Однажды на складе Феликсу приглянулся ржавый болт. Философ не дал. Дерьмо под забором нашел и жмет — обиделся Феликс. На что философ заметил: «Дерьмо оно так и есть дерьмо, когда под забором лежит, а вот попало на полку в склад — оно уже не дерьмо, а вещь, имеющая инвентарный номер». Это было все, что высмотрел Феликс.
На другой день Феликса, всячески избегавшего встречи с военными, в проходной взял за локоть капитан.
— Ты что, механик, сторонишься меня? — обиженно спросил он. — А как же наш разговор? Или под винцо сболтнул? А я поверил тебе, и очень заинтересовал ты меня историей с этой девушкой.
Феликс оправдывался, что-де не успел… много работы.
— Тебе надо встретиться с ней, очень надо, и ты обещал ей кое-что вернуть, так верни, нельзя обманывать девушку, — крепче сжимая локоть, внушал капитан.
— Сегодня же и пойду, — сказал Феликс и почувствовал такой страх, что усомнился в словах своих и в то же время заликовал. Капитан повеселел, пожурил, что-де мало нас, фронтовиков, осталось и надо держаться вместе; пожелал «ни пуха» и, подтянутый, чисто выбритый, лихо откозырял и уже с улицы крикнул, что уезжает и вернется через три дня.
Феликс не пошел к Вере ни в тот, ни на другой день, а, убеждая себя, что это очень важно, продолжал выслеживать военных. Лишь на третьи сутки он сказал себе: больше не могу, пусть сегодня Вера захлопнет дверь передо мной, и все встанет на свои места.
Вечером он стал готовиться, как к Страшному суду, но был спокоен и решителен. Он поразглядывал себя в зеркале, удивился, что стал худ и бледен, а под глазами синяки. Ты просветлен, улыбнулся он в зеркало, ты исстрадался, ты поползешь на коленях и вымолишь прощение. Ты отнесешь ей свой роман, попросишь перепечатать, и это будет поводом, а деньги до приезда капитана ты вернешь. Диамар с удовольствием даст в долг. В зеркале он теперь видел себя ловким и удачливым. Слишком ты розовощек, сказал он своему отражению, и опять пришла мысль о докторе, и Феликс долго стоял, упершись лбом в косяк. А за окном прошел дождь, закатное солнце светило в щель из низких фиолетовых облаков, омедняя их пухлые животы, и город, словно отлитый из меди, лежал как на подносе, и вместе с капитаном и фабрикой, вместе с живыми, отплясывающими чарльстон, вместе с мертвыми в гробах, уж отплясавшими, уплывал, как показалось Феликсу, из-под ног его.
Феликс заспешил. Он принял ванну и долго сомневался, надеть похоронный костюм или идти в джинсах. Он надел джинсы.
Под балконом, лаково-мокрый, стоял его «запорожец», но он сказал: я пройду весь путь пешком. Его плечо отяжеляла сумка, и было приятно нести к Вере многолетний труд. Он шел кривыми закоулками, радостно удивленный тем, что прожил жизнь в этом городе, а здесь нога его не ступала и он идет новой дорогой к своей Вере. Временами накатывал страх, ведь не может же быть он, Феликс, счастлив. Веры, конечно, не окажется дома, а если дома… то и доктор уже в гостях, и они пьют чай с малиновым пирогом, а перед ним, Феликсом, закроется дверь. Эта мысль сделала его несчастным, у церковных ворот он схватился за железо ограды и с закрытыми глазами переждал ослабевающий приступ страха. Он нашел в себе силы отворить калитку и войти в беленький церковный дворик и, сняв берет, направился к старому дому напротив церкви, к двери резной, чуть приоткрытой. Господи, сделай так, чтоб было все хорошо, попросил он, нажал на звонок и ждал, разглядывая окно в белотюлевой занавеси и серого кота на подоконнике, лениво щурившегося, а рукой нашаривал железо.
— Войдите, открыто, — услышал он из глубины комнат, и этот голос лишил его остатка сил. — Открыто, — услышал он ближе, и легкие шаги, и Вера, с миской в руке, в зеленом переднике, в завязанной крест-накрест белой шали, с компрессом на горле, встала в открытой двери.
— Это вы, Феликс? — спросила она, и не было ни тени замешательства на спокойном ее лице. — Дверь открыта, заходите, туфли снимать не надо.
Он миновал сумеречный коридор и, вдохнув запах чего-то пригорелого, встал на пороге комнаты.
— Присаживайтесь, — пригласила Вера. — Папа в церкви, Павлик гуляет, а я оладьи пеку, да вот немного пригорели.
Он не слушал ее, отыскивая что-то важное, волнующее его, нашел и уже не мог отвести глаз. Это были золотистые мандарины в вазочке на старом буфете.
— Кто? — спросил он. — Кто принес мандарины? Ведь должен был я.