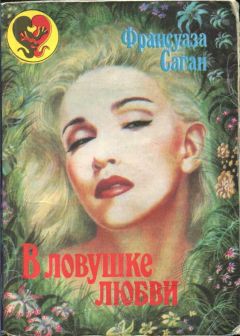Франсуаза Саган - Женщина в гриме
– О, простите, Эрик… Поймите, я не хотела говорить такое… Боже, до чего я неосторожна, это ужасно…
– Займитесь этой картиной, – проговорил Эрик ровным голосом, но уже в порядке приказа.
Ольга кивнула головой в знак согласия, прижав свернутый в клубочек платок к губам, способным произносить бестактности. Она заметила, как Эрик побледнел, услышав ее заявление о счастье Жюльена, как у него перехватило дыхание, и торжествовала, глядя, как он удаляется своим размеренным шагом, на этот раз, быть может, преувеличенно чеканным.
В прокуренном баре, где висел прозрачный сизый дымок, придававший ему сходство с декорацией какого-то фильма, большинство пассажиров окружало рояль и слушало Симона Бежара, игравшего «тему „Нарцисса“», которую, по его словам, он позаимствовал из цыганского фольклора. В остальной части помещения не было никого, кроме Армана, съежившегося за спасительным круглым столиком на одной ножке, и Клариссы с Жюльеном, опиравшихся о барную стойку и, казалось, вовсе не слушавших неожиданный концерт, а смеявшихся над чем-то своим, с беззаботностью и самолюбованием людей, лишь недавно полюбивших друг друга. И тут на пороге появился Эрик.
Взгляд Эрика Летюийе был твердым, и он окликнул Клариссу голосом тихим, но решительным, отчего в баре секунд на пять воцарились тишина и какое-то непонятное смятение, нарушенные Эдмой, привычной к подобного рода водевильным ситуациям. Она вновь положила руку Симона на клавиши рояля, как это делают со строптивым ребенком, не желающим упражняться в сольфеджио. Это послужило сигналом к возобновлению беседы, а одинокий, какой-то съежившийся Жюльен, поднявшийся одновременно с Клариссой, всем своим видом олицетворял что угодно, только не веселье.
Появившаяся в баре Дориаччи, увидев выражение его лица, все поняла и попыталась исправить положение.
– Вы ведь не позволите мне пить в одиночку, месье Летюийе, – проговорила она. – Мне, по правде говоря, хотелось бы проконсультироваться с вами по поводу своей программы на этот вечер. С вами и вашими друзьями, само собой разумеется. Песенный цикл Малера… Что вы обо этом думаете?
– Мы вам полностью доверяем, – проговорил Эрик преувеличенно-светским тоном. – А сейчас извините нас!
И он потащил за собой Клариссу, а Дориаччи повернулась к Жюльену, подняла руки, повернув ладони вверх жестом бессилия, и со свойственной ей экспрессией воскликнула: «Увы!»
– Вы побледнели, – сказал Жюльену Андреа и похлопал его по плечу покровительственным жестом. Роли переменились. – Выпейте стаканчик, старина, – проговорил он и плеснул ему неразбавленного виски, которое тот проглотил, даже не заметив.
– Если он ее только тронет, – пробормотал он сдавленным голосом, – если он ее только тронет, я… я…
– Ну ладно! Никакого «я», дорогой Жюльен. Никакого! Вы с ума сошли… – Эдма на всех парах пересекла бар и уселась за их столик с по-матерински озабоченным выражением лица.
– Этот Летюийе – чересчур большой сноб, чересчур хлипкий. Он не полезет бить жену, как это описано в книгах Золя. И он, как мне кажется, отлично помнит свое происхождение. Имейте в виду, что только аристократы могли надавать своим женам пощечин так, что это не выглядело вульгарно… Именно аристократы, подлинные аристократы, я не говорю про знать Империи… Более того, этот бедняга не имеет ни малейшего понятия об истинном снобизме. Ему следовало бы уразуметь, что в наше время быть домашней прислугой или почтовым работником – это «самое то». Да, конечно, домашняя прислуга – нечто более экзотическое, но почтовый работник – это в стиле Кено, это очаровательно…
– Что вы хотите сказать? – спросил Андреа. – Во всяком случае, я считаю вашу теорию очень и очень верной, – проговорил он, слегка поклонившись Эдме, которая одарила его деланной улыбкой, предназначенной для неловких льстецов.
Однако лицо молодого человека опровергало ее предположение, что слова его были обычной лестью. «Он невероятно естествен, этот сентиментальный блондинчик, этот жиголо-ренегат», – подумала Эдма.
– Прошу вас, Жюльен, не нервничайте. Во всяком случае, через десять минут мы идем обедать.
– И если Летюийе не приведет с собой жену, я сам отправлюсь на розыски, – проговорил Симон Бежар.
Он покровительственно похлопал его по плечу, и тут к ним присоединился Чарли, на лице которого также было написано сочувствие. За своими столиками осталось лишь несколько старичков, ко всему безразличных, скрючившихся, как на спасательном плоту, да еще Ольга Ламуру, которой Кройце повествовал о далеких романтических годах своего ученичества.
– Я спрашиваю себя, как этот бедняга Летюийе умудрился вызвать столь единодушную антипатию… ну, почти единодушную, – заявила Эдма, бросив взгляд в уголок, где сидела Ольга, и с чувством сжимая руку Симона.
Сказано это было со смехом, однако он отвернулся.
– За ваши злобные мысли, месье Пейра, штраф десять пенни, – продолжала она, не смущаясь. – Нет, пожалуй, маслина, – добавила она, ловко выуживая маслину из стакана Жюльена Пейра, на которую она положила глаз, как только вошла в бар. – Как могло случиться, что Кларисса, женщина красивая, богатая и такая… разумная… – Эдма Боте-Лебреш была не в силах называть женщину умной, разве что какую-нибудь уродку, – как Кларисса смогла выйти замуж за этого Савонаролу?.. – Она понизила голос в конце фразы, не будучи вполне уверена, кто он такой и где в этом имени следует писать «о». Во всяком случае, это был фанатик, уж в этом-то она была почти уверена… Так или иначе, никто и глазом не моргнул, потому что не моргает глазом никто и никогда.
– Бедняжка Кларисса, – с улыбкой проговорила Дориаччи (слегка раздосадованная тем, что Эдма Боте-Лебреш похитила маслину, которую она тоже облюбовала). – Во всяком случае, за последние два дня она стала поистине очаровательной! А вот несчастье безобразит человека, – продолжала она, похлопывая по подбородку Андреа, который, однако, отвел взгляд. – Ах, мужчины на нашем корабле что-то невеселы… – величественно произнесла Дива. – Андреа, Чарли, Симон, Эрик… Похоже, мужчины от этого круиза не в восторге. А вот женщины находят его очаровательным! – Тут Дориаччи откинула назад свою прекрасную белую шею и залилась хрустальным переливчатым девическим смехом.
Сидящие за столиком на мгновение замерли, разинув рты, а Дориаччи бросила вокруг себя взгляд, в котором были вызов, радостное оживление, гнев, выдававшие в ней человека ни в грош не ставящего сплетни и осуждение окружающих. Все сидели затаив дыхание, за исключением Жюльена, который, несмотря на свои переживания, послал этому воплощению свободы улыбку восхищения…