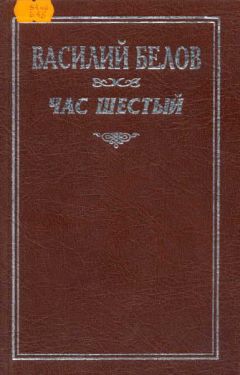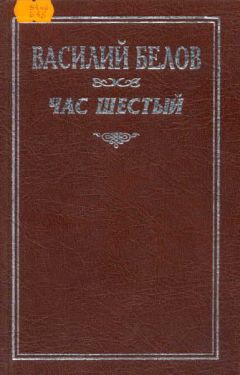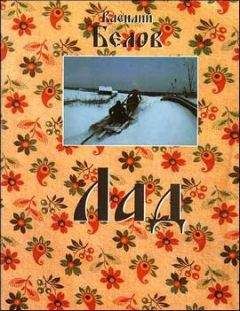Василий Белов - Кануны
— На-ко… Заяц гостинца послал. — Дедко подает внуку капустного пирога. — Сам не ешь, грит, отдай Сереге.
— Дедо! Дедушко…
— Что, дружочек? — дедко замечает, что внук дрожит как осиновый лист. — Ты что, батюшко? Чево дрожишь-то?
— Дедо! Гляди-ко!
— А, дак ведь это Кустик. Вишь, на гумно пришел мышей половить.
И дед большой мозольной рукой гладит Сережкину голову. Мальчик потрясенно вздыхает от небывалого облегчения. Весь мир сразу становится на свое прежнее место. Родимый овин опять понятен, и так смешно шевелится дедкова борода, жующая крошки капустного пирога.
— Кис-кис… — зовет дедко. — Иди, Кустик, сюды, пирожка дам.
Кустик выходит из темноты, трется о Сережкин бок и мурлычет — настоящий простой и ласковый Кустик! Дедко подкидывает в печку дров. Сережка, облокотившись, глядит на огонь, облизывающий новые чурки, и слушает, как мурлыкает Кустик.
— Спи, спи, — говорит дедко. — Ежели молотить собираешься вутре, дак и спи. — Никита поправляет Сережкино изголовье. — Вон и Кустику спать охота.
— Только разбуди, дедушко.
Сережке кажется, что он еще не спит, глядит на огонь. Но он уже спит, и огонь затихает, расплывается во все стороны. Глохнут, отодвигаются куда-то слова деда и урчанье кота. Сладкий и крепкий сон обнимает мальчика. Дед Никита отставляет в угол Сережкины сапоги, накрывает мешком ноги внучонка. Пока горят вновь подкинутые дрова, можно подремать и ему. Дед Никита слушает кота и бормочет:
— Ангел Христов снятый, к тебе припадая, молюся, хранитель мой, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения… Аз же своею леностью и своим злым обычаем прогневал твою пречистую светлость…
Дрова в печи трещат, шепот Никиты переходит в голос, и кот замолкает, слушая старика.
— …и отгнах тя от себя всеми студными делы: лжами, клеветами, завистью, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, яростью, объядением без сытости и опивством, многоглаголением, злыми помыслы и лукавыми, и гордым обычаем… — Дед Никита крестится и кладет голову на Сережкино изголовье. Но сон старика чуток и зыбок. Пылает в печи спокойный, ровный огонь. Широка, темна за гумном тихая осенняя ночь. Все спит на земле, только не спят старики в овинах, подкидывают дрова, греют перед огнем старые кости. Кашляют. Думают, вспоминая отшумевшую жизнь. Сколько перепахано было земли, пролито пота? — О, хлеб насущный! Многотрудный, всесильный наш!.. Господи, господи… И днем и ночью гласишь, в зиму и лето, от рождения человеческого до смертного краю… Приди в закрома! Дай силу рукам человеческим, ясную зоркость уму и торжество бессмертной душе! Младенца установи на крепкие ноги, вдовицу утешь, приласкай сироту… Недруга напитай! Пускай потухнет его лютая злоба и стихнет потрясение нестойкой души. С тобой да сгинут везде страдания и смуты… — Дрова в печи пылают сильным огнем. Дед Никита не может забыться, он кряхтит и лезет через дверку в гумно. Гумно так велико, что на деревянной долони можно играть в рюхи либо объезжать молодую лошадь. Вокруг плотная, словно бы осязаемая темнота, но старик знает гумно на ощупь, как свои последние зубы во рту. Знает, сколько шагов до разных засеков, где какой угол и штырь. Он не боится ни споткнуться, ни стукнуться в темноте, ставит лестницу и лезет высоко на подмостки, откуда сажают на овины сырые снопы. Открывает плотно закрытую дверцу на первый посад. В лицо шибает прелым густым жаром, духом колосьев и травяного, сжатого вместе с рожью, подсада. Снопы сохнут споро. Никита слезает вниз, опять лезет в овин и крестит сладко посапывающего внука.
* * *Сережка пробудился от молотильного стука. Еще не светало, и в овине было тепло и темно. В заткнутое чуркой окошко не пробивалось ни капельки света. Хоть выколи глаз. В печи краснели, гасли последние, подернутые золой угли. Зола шевелилась от воздуха, как бахрома. Пеклась посаженная кем-то картошка, но ни дедушки, ни кота не было.
«Проспал! — ужаснулся Сережка. — Обдули, не разбудили». Сапоги, как назло, затерялись, Сережка еле их обнаружил. Кое-как обулся и даже без пиджака вылез в гумно.
Его обдало студеной свежестью.
В гумне горело два фонаря, подвешенных на штыри у засеков. Молотили уже в самом конце, значит, домолачивали. Верка, сестра, увидев Сережку, пропустила удар и низом вывела молотило.
— Ой, проспал, Сережка, без тебя измолотили!
Сережка стоял сбоку. Павел с отцом и дедко бухали втроем, мать граблями подсовывала под их цепы, ворошила ржаные пряди. Дошли до конца и остановились.
— Что, Серега? — спросил Иван Никитич.
Сережка вдруг заревел.
Все начали утешать его, уговаривать:
— Ты чего ее слушаешь?
— Врет она, врет ведь! Еще овин есть.
— Намолотишъся.
— Глаза-то не три, не три, а то ость попадет.
Сережка не сразу успокоился, стукнул кулачишком по Вериному бедру.
— Вот тебе.
— Ну-ко оболокись! — прикрикнула мать, и Сережка побежал обратно в овин.
— Пойду коли печь топить, домолачивайте. Да картошку-то в овине не ешьте, опять шти останутся. — Аксинья вытрясла платок и ушла домой. Иван Никитич и Павел полезли в овин.
Синеватый, еле заметный рассвет обозначился в проеме больших гуменных ворот. Вера сгребла, вытрясла и вытаскала солому на улицу. Дедко полукруглым, сделанным из полоза пехлом, толкая, сгрудил непровеянное зерно и деревянной лопатой окидал ворох. Остатки он дочиста замел березовым голиком. Деревянный пол гумна, или долонь, стал ровным и чистым, без единой соринки.
— Ну, Сергий, полезай коли наверх! — сказал дедко. — Кидай!
Сережка заторопился по лестнице наверх. Он открыл дверку второго посада и начал рьяно скидывать. Снопы были в его рост, все еще тяжелые, хотя и сухие. Они кололись осотом и жесткими, как проволока, соломинами, но Сережка кидал и кидал. Вскоре пришлось залезать внутрь, в самую жару. Сережка раздвинул прожаренные колосники. Вера прилезла ему на помощь, и вдвоем они быстро скидали посад. Дедко внизу таскал снопы за шиворот в дальний конец гумна и клал двумя рядами на середину колосьями. Когда Сережка спустился вниз, дедко подобрал ему молотило, которое потоньше и полегче.
— Верка, давай зови мужиков! А ты, Сергий, вставай вот тут, подле меня. Да колоти-то сперва не шибко. Не торопись, подлаживайся.
Подошел Иван Никитич, притворно удивился:
— Гляди-ко! И Сережка у нас тут!
И встал с Павлом по другую сторону. Вера серпом быстро разрезала перевясла, взяла грабли, чтобы тормошить.
— Ну, с богом! — дедко ударил.