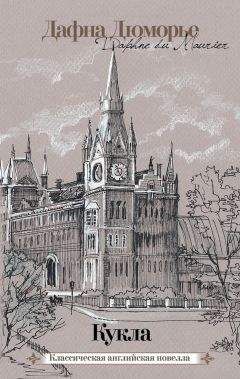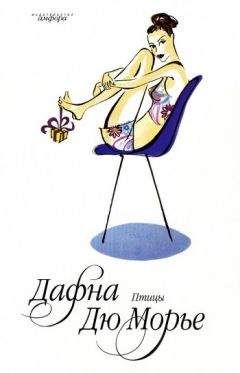Дафна дю Морье - Козел отпущения
Мари-Ноэль уже схватила конверт и надписывала на нем адрес первого человека по списку.
— Мне не полагается говорить, — сказала она, — потому что бабушка об этом не знает. Тетя Рене у себя в комнате, пересматривает зимние вещи. Она сказала мне под большим секретом, что после похорон они с дядей Полем уедут. Они будут путешествовать, а потом, сказала она, они, возможно, поселятся в небольшой квартире в Париже. Она сказала, что пригласит меня погостить, если вы с бабушкой не будете против.
— А дядя Поль тоже разбирает наверху вещи? — спросил я.
— Нет, он уехал на фабрику, — ответила Мари-Ноэль. — И тетя Бланш с ним вместе, а вовсе не пошла в церковь. Но это тоже тайна. Они боялись, что если бабушка об этом услышит, она вмешается. Тетя Бланш хочет посмотреть на мебель, которая хранится в доме управляющего, и отобрать из нее что можно. Она сказала мне, что вчера она была там впервые за пятнадцать лет. И что дом пропадает без пользы, раз в нем никто не живет, и его надо сделать обитаемым.
— Тетя Бланш так тебе сказала?
— Да, сегодня утром. Она собирается предпринять что-нибудь по этому поводу. Вот почему она поехала с дядей Полем.
Несколько минут она молча надписывала конверты. Затем подняла голову и, покусывая кончик пера, сказала:
— Мне сейчас пришла в голову ужасная мысль. Не знаю даже, говорить тебе или нет.
— Продолжай, — сказал я.
— Понимаешь, как только maman умерла, у всех неожиданно появилось то, что они желали. Бабушка любит, чтобы на нее обращали внимание, и вот она спустилась вниз. Дядя Поль и тетя Рене собираются путешествовать и очень этим довольны. Тетя Бланш отправилась в дом управляющего, где, как она однажды сказала мне по секрету, она давным-давно, еще до моего рождения, собиралась жить. Даже мадам Ив возится с бельем и чувствует себя важной персоной. Ты получил деньги, как хотел, и можешь тратить их сколько душе угодно. А я, — она приостановилась в нерешительности, глядя на меня тревожно и печально, — я в результате избавилась от братца и буду иметь тебя в своем распоряжении до конца моих дней.
Я глядел на девочку, и из глубины сознания пробивалась забытая, а может быть, подавленная мысль: что-то насчет алчности, что-то насчет голода. Через полуоткрытые двери в столовую вдруг донесся телефонный звонок. Он мешал мне, нервировал, не давал сосредоточиться, а слова Мари-Ноэль неожиданно показались очень важными, требующими правильного ответа.
— Я вот что хочу знать, — продолжала Мари-Ноэль, — случилась ли бы хоть одна из этих вещей, если бы maman не умерла?
Ее ужасный, мучительный вопрос, казалось, потрясал основы всякой веры.
— Да, — быстро ответил я, — они должны были случиться, не могли не случиться. Это никак не связано со смертью maman. Если бы она осталась жива, они все равно произошли бы.
Однако на лице Мари-Ноэль все еще было сомнение, мой ответ не совсем ее удовлетворил.
— Когда вещи случаются по воле bon Dieu,[59] — сказала она, — все бывает к лучшему, но иногда, надев личину, нас искушает дьявол. Ты помнишь, как сказано в Евангелии от святого Матфея: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
Звонок в холле прекратился. Гастон снял трубку. Через минуту его шаги послышались в столовой. Они приближались к нам.
— Главное, разгадать: кто — кто, — сказала Мари-Ноэль. — Кто дает нам то, что мы хотим. Бог или дьявол. Это может быть только один из двух, но как узнать — который?
Гастон подошел к дверям и позвал меня:
— Господина графа просят к телефону.
Я встал и прошел через столовую в холл. Поднял старомодную трубку.
Кто-то неразборчиво произнес:
— Ne quittez pas.[60]
Голос звучал глухо, словно звонили по междугородной линии. Затем немного спустя другой голос, мужской, сказал:
— Я говорю с графом де Ге?
— Да, — ответил я.
Пауза. Казалось, мой собеседник на другом конце провода раздумывает, что сказать.
— Кто это? — спросил я. — Что вам надо?
Тихо, чуть не шепотом, голос ответил:
— Это я, Жан де Ге. Я только что прочитал сегодняшнюю газету. Я возвращаюсь.
Глава 25
Все во мне отвергало его. Разум, дух, чувства объединились в протесте. Шепот на другом конце провода мне почудился, был плодом усталости, плодом воображения. Я ждал, ничего не ответив. Спустя мгновение он снова заговорил.
— Вы слышите меня, — спросил он, — вы, мой remplacant?[61]
Возможно, потому, что в холле раздались шаги — неважно чьи, скорей всего Гастона, — я ответил ему сухим тоном, как пристало деловому человеку, привыкшему отдавать приказы и распоряжения.
— Да, — ответил я. — Я слушаю вас.
— Я звоню из Девиля, — сказал он. — У меня ваша машина. Я собираюсь приехать в Сен-Жиль попозже к вечеру. Нет смысла появляться там, пока не стемнеет, — меня могут увидеть. Предлагаю встретиться в семь часов.
Его апломб, уверенность, с какой он говорил, не сомневаясь в моем согласии, вызвали во мне еще большую ненависть.
— Где? — спросил я.
Ответил он не сразу — думал. Затем тихо сказал:
— Вы знаете дом управляющего в verrerie?
Я думал, он назовет отель в Ле-Мане, где сыграл надо мной свою первую и единственную шутку. Это была бы нейтральная зона. То, что вместо этого он предложил дом управляющего, было прямым вызовом.
— Да, — сказал я.
— Я оставлю машину в лесу, — продолжал он, — и пройду к дому садом. Ждите меня внутри и откройте мне дверь. Я буду вскоре после семи.
Он повесил трубку не попрощавшись. Щелчок — и все. Я вышел из ниши, где висел телефон, в холл. Гастон и Жермена сновали взад и вперед между кухней и столовой с подносами в руках — подходило время обеда. Снаружи, на подъездной дорожке, послышался шум колес: это возвращались с фабрики Поль и Бланш. Скоро все сойдутся в столовой для совместной трапезы.
Хотя во мне кипела ярость, я держал себя в руках. Сегодня я был хозяин дома, а он — незваный гость, желающий присвоить мои права. Замок был теперь моим семейным очагом, те, кто жил в нем, кто через несколько минут соберутся во главе со мной вокруг стола, были моей семьей — плоть от плоти, кровь от крови, — мы составляли единое целое. Не мог он вот так вернуться и отобрать их у меня.
Я вошел в гостиную; графиня все еще сидела там, обозревая мебель, опять расставленную по-иному. Жюли исчезла, забрав с собой камчатную скатерть. Графиня была одна.
— Кто это звонил? — спросила она.
— Да так, один человек, — ответил я. — Прочитал некролог в утренней газете.
— В прежние времена, — сказала графиня, — никому и в голову не пришло бы звонить. Это свидетельствует о недостатке такта. Учтивый человек выразил бы свое соболезнование в письме и прислал бы мне цветы. Но — что говорить! — хорошие манеры остались в прошлом.