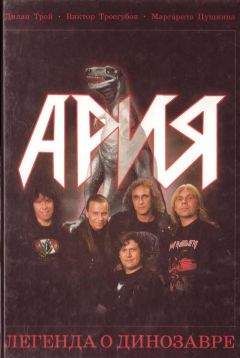Пол Скотт - Жемчужина в короне
И тут мне вдруг стало ясно, что моя прежняя жизнь была не так уж безнадежно дурна, как мне твердила совесть. Конечно, нехорошо было пить так много скверной водки и водиться без разбору с безнравственными женщинами, но теперь я понял, что делали мы это, чтобы дать выход нашей энергии. Окрыленный этим открытием, я опять пошел в лавку, вернул украденную книгу законному владельцу и сказал, что унес ее нечаянно, по рассеянности. После этого он разрешил мне три часа просидеть в глубине лавки, читая новые книги, только что полученные из Калькутты и Бомбея.
Мне шел восемнадцатый год, когда мистер Нарайан, учитель миссионерской школы, зашел ко мне домой и рассказал, что редактору «Майапурской газеты» требуется энергичный молодой человек с хорошим знанием английского языка, чтобы работал в редакции рассыльным и понемногу обучался репортерскому ремеслу. Мистер Нарайан не скрыл от меня, что это он пишет для газеты очерки или «Сюжеты» за подписью «Прохожий», чтобы пополнить свое учительское жалованье. Мой отец был против того, чтобы я уходил с моей теперешней работы. Он сказал, что со временем, если я буду старательно выполнять мои обязанности, проявлю усердие и постоянство, у меня есть шанс стать старшим клерком и даже жениться на одной из дочек хозяина. Здоровье отца за последние месяцы сильно пошатнулось. Сам он изо дня в день ходил пешком в свою контору, никогда ни на минуту не опаздывал, а часто работал и дольше положенного и, возвращаясь домой, выслушивал жалобы матери, что ужин перестоялся. С тех пор как я стал более по-взрослому смотреть на жизнь, я проникся уважением к отцу, которого раньше только критиковал. И очень ценил его несомненную любовь ко мне. Мне не хотелось его огорчать, но очень хотелось попробовать себя на работе, которую предложил мне мистер Нарайан, уже поговорив обо мне с редактором. Подумав, отец все же разрешил мне обратиться в «Газету». Я очень боялся, как бы он не умер — а умер он уже через полгода, — и не хотел огорчать его на склоне лет и думать, что он может уйти из этого мира, не оставив сына, который совершил бы по нему погребальные обряды. Но я благодарю бога, повелевшего ему уступить моим желаниям. И я был зачислен на работу в «Майапурскую газету».
После смерти отца я стал «главой семьи», мне пришлось выдавать замуж единственную из оставшихся в живых сестер, которой было тогда шестнадцать лет. Эти семейные хлопоты отняли у меня много времени в 1937–1938 годах. Мы с матерью остались жить вдвоем, она все уговаривала меня тоже вступить в брак. Я был в этом смысле наивен. Боялся, что мое общение с безнравственными женщинами не позволит мне безнаказанно стать мужем и отцом, хотя я, благодарение богу, и не заболел неизлечимой болезнью. Но помимо этого, я после смерти отца целиком посвятил себя политике и карьере «растущего» журналиста.
По долгу службы я теперь ежедневно бывал в кантонменте, где помещалась редакция «Майапурской газеты», и понемногу знакомился с жизнью на том берегу. Я и раньше, когда учился в школе, бывал там каждый день, но теперь, в роли начинающего журналиста у мистера Лаксминарайана, я узнавал много такого, что раньше меня не интересовало. Так, например, я много чего узнал об отправлении правосудия, о поддержании законности и порядка, об общественной жизни англичан.
Будучи молодым индийцем без какого-либо общественного веса, я часто подвергался мелким унижениям и с горечью вспоминал, как отцу приходилось отчитываться в каждом пенни, как он боялся хотя бы один день не выйти на работу. Я подружился с несколькими моими сверстниками, возобновил дружбу с Моти Ладом, и мы часто допоздна говорили о таких вещах у меня дома, когда мать уже спала. Но лишь после того, как мистер Лаксминарайан взял на мое место Гари Кумара, племянника богатого купца Ромеша Чанда Гупта Сена, у которого Моти Лал тоже одно время работал, а я перешел в редакцию «Майапурского индуса», я сошелся с группой молодых людей, моих единомышленников, живших без всякого руководства в мире, где их отцы боялись потерять хотя бы один рабочий день и даже политические деятели — индийцы говорили с нами на разных языках. Мы решили быть начеку и ухватиться за первую же возможность приблизить день нашего освобождения.
В то время англичане воевали с Германией, конгрессистские кабинеты ушли в отставку, и у нас хватило ума вообразить, что нашу родину опять заставят внести непомерную долю в расходы на войну, которой мы не искали и от которой не ждали никаких выгод, а только обещаний, остающихся пустыми словами. В те дни нам приходилось быть очень осторожными, чтобы избежать ареста, если, конечно, один из нас не решал нарочно подвергнуться аресту, нарушив какие-нибудь правила. И надо было очень осторожно выбирать новых друзей. Самый невинный на вид юноша мог оказаться полицейским шпионом, двое или трое моих друзей были арестованы на основании сведений, сообщенных по начальству такими людьми, а им иногда только и нужно было, что свести старые счеты, и они выдумывали всякие небылицы, чтобы убедить полицию арестовать кого-нибудь из нас. Моти Лал тоже был арестован, якобы по статье 144, запрещавшей выступать на студенческих сходках. Его посадили в тюрьму, но ему удалось бежать.
Когда японцы вторглись в Бирму и разбили англичан, мы почувствовали, что наконец-то наша свобода близка. Японцев ни я, ни мои друзья не боялись. Мы знали, что сумеем досадить японцам, если они вторгнутся в Индию и вздумают обращаться с нами так же плохо, как англичане. Многие наши солдаты, которых английские офицеры бросили и они попали в плен в Бирме в Малайе, были отпущены японцами на свободу и образовали Индийскую национальную армию под командованием Субхаса Чандра Боса. Если бы японцы выиграли войну, наших товарищей из Индийской национальной армии повсеместно считали бы героями, но вместо этого англичане после окончания войны жестоко их наказали, а наши «национальные лидеры» ничего не сделали, чтобы их спасти.
В те дни мы были уверены, что сделать Индию «великой державой» способны только люди молодые, готовые и пожертвовать жизнью, и, когда нужно, отнять жизнь. Мы не понимали разногласий и колебаний наших лидеров. К несчастью, мы были в силах сколотить лишь очень мелкие группы. Мы говорили друг другу, что стоит народу восстать против угнетателей, и мы, молодые, объединимся и покажем пример решимости и храбрости, который заразит всех.
Таково было положение во время восстания 1942 года. Вместе с еще несколькими молодыми людьми я уже приготовился принести любые жертвы. После ареста у меня часами выспрашивали сведения о «подпольной системе», но, если такая система и была, я ничего о ней не знал, знал только таких же мальчиков, как я сам, готовых идти на врага в первых рядах. В самый день ареста, 11 августа, я с несколькими товарищами обсуждал, как обратиться с призывами к толпам, которые в тот день собирались двинуться походом на кантонмент. Весть об этих планах быстро распространилась по всему городу. Одна толпа еще утром пыталась построиться недалеко от Мандиргейтского моста, но ее разогнала полиция — она всюду как из-под земли появлялась. В этой толпе меня и моих товарищей не было, мы в это время печатали листовки, призывающие народ помочь в освобождении юношей, ложно обвиненных в нападении на англичанку. Одну такую листовку мы закинули в полицейский участок около храма Тирупати, завернули в нее круглый камень и швырнули в открытое окно, чтобы тот из нас, кого выбрали для этого опасного дела, успел уйти незамеченным. После этого мы разошлись, кто по домам, кто на работу. Всего час спустя начальник полиции с целой гурьбой констеблей нагрянул в редакцию «Майапурского индуса», где я работал. Меня и других сотрудников, оказавшихся на месте, тут же арестовали, потому что полиция нашла в одной из задних комнат старый ручной печатный станок и заявила, что на нем печатали подрывную литературу.
Это была неправда, и из всех арестованных, насколько я знаю, только я вообще занимался такими делами, но я это отрицал: — Среди схваченных был и наш главный редактор, он сказал, что я в то утро на работе не был, а на ручном станке печатают только невинные объявления. Об этом я узнал позже, потому что нас держали врозь, а потом узнал, что всех выпустили, однако газету прикрыли. Я и тогда молчал, потому что надеялся сохранить в тайне место, где был спрятан станок, и имена моих сообщников. Из котвали меня перевели в камеры при полицейском управлении в европейском городе, где содержались и юноши, арестованные за два дня до этого близ Бибигхара, но я их там не видел. Меня поместили в отдельную камеру, а после допроса перевели в тюрьму в старом городе. Там я и находился, когда народ напал на тюрьму, одолел охрану и полицию у ворот и ворвался внутрь. Нескольких заключенных удалось освободить, но, к несчастью для меня, этот акт освобождения имел место в другом корпусе, а вскоре тюрьму отбили войска, и нашим недолгим надеждам на свободу пришел конец. В этом сражении погибло много невинных людей, что власти постарались скрыть, сильно занизив данные об убитых и раненых.