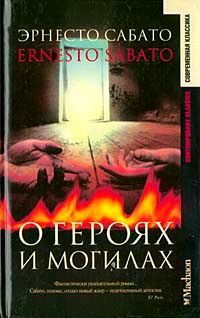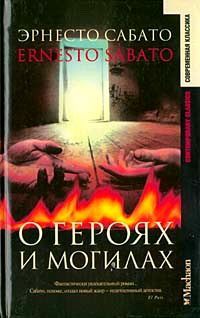Эрнесто Сабато - Аваддон-Губитель
Наконец он решился открыть глаза и посмотреть вверх — да, оно было там: пламя пышет из ноздрей, глаза, налитые кровью, глядят с безмолвной, но именно поэтому более жуткой яростью — будто кто-то грозит нам в полной тишине и среди полного безлюдья но так, что никто другой не может заметить ужасной опасности.
Он зажмурил глаза и, едва держась на ногах, откинулся к стене. Долго простоял он так, пока не собрался с силами, чтобы пойти домой, и побрел, не отрывая взгляда от плит тротуара.
На следующий день повторились те же странные ощущения, что накануне, — все люди ходили взад-вперед, как если бы ничего не случилось, говорили о том, о чем говорили всегда (о политике, о футболе). Отпускали все те же шутки в баре Чичина. Барраган смотрел на них с ужасом, но молчал, не решаясь сказать то, что прежде высказал бы не задумываясь. И когда возвращался домой, старался не взглянуть ненароком на небо.
Так прошло несколько дней, и Барраган чувствовал себя все более подавленным, беззащитным, терзаясь тем, что он как бы совершает нечто постыдное, какое-то предательство или трусливый поступок. Пока в одну из ночей, когда он входил в свою темную комнату, его не ослепило уже знакомое яркое сияние. В центре полыхающего круга он увидел лик Христа, взирающего на него грустно и сурово, как на ребенка, которого любят, но который сотворил какую-то пакость. Потом лик исчез.
Наталисио Барраган хорошо знал, за что его укоряет Христос. Пятнадцать лет назад Христос явился ему, и он начал проповедовать на улицах и в баре Чичина. Он пророчил, что на Буэнос-Айрес обрушится огонь, и все, подсмеиваясь над ним, говорили: «Давай, Псих, давай. Расскажи, что тебе говорил Христос», — и он за стаканчиком каньи рассказывал. Наступают времена крови и огня, говорил он, угрожая указующим перстом верзилам, которые хохотали и толкали его, а он твердил, что грядет очищение мира кровью и огнем. Когда в холодный июньский день 1955 года[335] смерть настигла тысячи рабочих на Пласа-де-Майо и жена самого Баррагана погибла под бомбами, а вечером серое небо Буэнос-Айреса озарили пожары, все они вспомнили психа Баррагана, который, начиная с того злополучного дня, стал совсем другим человеком, — был он бестолковым, но добродушным, а стал молчаливым, и глаза смотрели так, будто хранят ужасную тайну, он замкнулся в себе, как в уединенной пещере; в тайниках его духа что-то ему говорило: мол, все, что было, это еще пустяки, и недалек тот день, когда на людей, на всех людей обрушатся куда более тяжкие беды. Тем временем он все молчал, и парни, унаследовавшие от старших привычку потешаться над Барраганом, теперь, когда он входил в кафе, умолкали.
Он уже не проповедовал. Он стал угрюмым и необщительным. Но когда ему явился дракон, он понял, что час настал и он должен исполнить свой долг.
Да, Христос знал, что Он хотел сказать ему, выражая на своем лице скорбь и суровую печаль. Да, он грешник, он живет подаянием, продажей газет, которые ему дает Берлингери. Он бродяга, и в довершение всего — хранит тайну Видения.
В тот день, после полудня, после многочасовых размышлений на набережной Порта, Барраган зашел в кафе, попросил свой обычный стаканчик каньи и, обернувшись туда, где сидели Лояконо, Берлингери, кривой Оливари и хромой Акунья, сказал:
— Ребята, вчера ночью мне явился Христос.
Они как раз толковали о матче с «Рейсингом». Наступила могильная тишина. Парни прекратили игру на бильярде, все смотрели на него озабоченно и серьезно. Барраган окинул их строгим взором, он весь дрожал.
— Но еще раньше мне на углу улиц Брандсен и Педро-де-Мендоса было среди ночи другое видение.
Все напряженно смотрели на него. Дрожащим голосом Барраган произнес:
— Там, за рекой, оно заняло половину неба. Хвост достигает до земли.
Он остановился, ему мешали говорить то ли страх, то ли стыд. Потом тихо прибавил:
— Красный дракон. С семью головами. Из ноздрей пышет пламя.
Наступила долгая пауза, потом Наталисио Барраган еще прибавил:
— Потому как близок час, и Дракон этот предвещает кровь, и не останется камня на камне. Лишь потом Дракона закуют в цепи.
Крыса с крыльями
Не подымая тревоги (зачем кричать? чтобы люди с отвращением накинулись на него с палками и убили?), Сабато наблюдал, как его ноги превращаются в лапы нетопыря. Он не ощущал ни боли, ни даже щекотки, чего можно было ожидать из-за усыхания и сморщивания кожи, — только омерзение, которое усиливалось по мере того, как шло превращение сперва ступней, потом голеней, бедер, а постепенно и туловища. Его омерзение стало еще сильней, когда формировались крылья, — быть может, потому, что они были без перьев, совсем голые. И наконец — голова. До этого момента он взглядом следил за процессом превращения и, хотя не решался притронуться руками, еще человечьими, к этим лапам нетопыря, он, охваченный леденящим ужасом, не мог не заметить когтей гигантской крысы и кожи сморщенной, как у тысячелетнего старца. Однако потом, как уже было сказано, его больше всего поразило формирование огромных хрящеватых крыльев. Но когда процесс захватил голову, он почувствовал, что лицо его вытягивается вперед, в виде морды, и на принюхивающихся ноздрях топорщатся длинные волоски, ужас его достиг предельной, неописуемой пронзительности. Какое-то время он лежал неподвижно, будто парализованный, в постели, где его настигла эта метаморфоза. Он пытался сохранять спокойствие, составить какой ни на есть план действий. В этот план включалось намерение сохранять молчание, так как криками он бы только привлек людей, которые безжалостно его прикончат. Впрочем, оставалась слабая надежда, что они поймут, что эта живая нечисть и есть он, — ведь логически нельзя было объяснить, как подобная тварь очутилась на его месте.
В его крысиной голове роились всяческие идеи.
Наконец он поднялся и попробовал, сидя, успокоиться и примириться с возникшей ситуацией. С известной осторожностью, как если бы речь шла о каком-то чужом теле (в какой-то мере так оно и было), он попробовал занять положение, которое обычно принимает человек, вставая с кровати: то есть сел немного боком, опустил ноги. Тут он обнаружил, что его лапы не достают до пола. Он подумал, что его кости, съежившись, должны были сократиться в длину, пусть и не чрезмерно, — чем объяснялось, что кожа сморщилась. Он рассчитал, что рост его теперь примерно метр двадцать. Поднявшись, посмотрел на себя в зеркало. Долго стоял он, не двигаясь. Безмерное отчаяние овладело им — он молча зарыдал, глядя на этот ужас.
Некоторые люди держат крыс у себя дома, физиологи, например Усай, они проводят эксперименты с этими мерзкими тварями. Но он всегда принадлежал к той категории людей, которые испытывают неодолимое отвращение от одного вида крысы. И можно вообразить, что он чувствовал, глядя на крысу в метр двадцать ростом с огромными перепончатыми крыльями, с отвратительной сморщенной кожей. И внутри этой кожи — он!
Начало слабеть зрение, и он внезапно осознал, что это ослабление отнюдь не преходящий феномен и не следствие волнения, — нет, оно будет постепенно усугубляться, пока не дойдет до полной слепоты. Так и случилось: еще несколько секунд — хотя эти секунды показались ему веками катастроф и кошмаров, — и в его глазах воцарился непроницаемый мрак. Он окаменел, сердце, однако, бешено колотилось, и весь он дрожал от холода. Ощупью, мелкими шажками он подошел к кровати и сел возле на пол.
Немного посидел и вдруг, не в силах сдержаться, забыв о своем плане и разумной осторожности, невольно издал громкий вопль-мольбу о помощи. Однако вопль был уже не человеческий — то был пронзительный, тошнотворный писк огромной крылатой крысы. Конечно, на его крик пришли люди. Но никто не выказал ни малейшего удивления. Его спросили, что случилось, может быть, он себя плохо чувствует, может быть, выпьет чашку чая.
Совершенно очевидно, его изменения не заметили.
Он ничего не отвечал, не вымолвил ни единого слова, полагая, что если заговорит, его примут за сумасшедшего. И он решил жить во что бы то ни стало, храня свою тайну, даже в столь жутких обстоятельствах.
Ибо жажда жить безусловна и неутолима.
Хеорхина и смерть
Это два слова, которые Бруно всегда избегал мыслить рядом, как будто посредством столь невинной магии он мог парализовать ход времени, и к этой магии он все чаще прибегал по мере того, как шли годы, по мере того, как — подобно ледяным августовским ветрам, срывающим сухие, пожухлые листья, — время уносило все, что он хотел бы сохранить навсегда.
Он шел без определенной цели, но вдруг понял, что идет вдоль Рио-Куарто, и вот уже перед ним на фоне серого осеннего неба высится розовый бельведер, не просто унылый, но зловещий и загадочный, как Алехандра и Фернандо. И дом семьи Ольмосов напомнил ему некоего удивительного сеньора Вальдемара[336], которого гипнотизер удержал на пороге смерти; его гнилые внутренности и тысячи червей застыли в ожидании, пока у порога кромешных врат не раздастся шепот этого полутрупа, молившего в отчаянии, ради Господа Бога, позволить ему кончиться сразу. И когда маг снял заклятие, тело обрушилось в смерть и мгновенное гниение, и мириады червей вырвались на волю, как войско бесконечно малых, но взбесившихся от голода и жажды чудовищ.