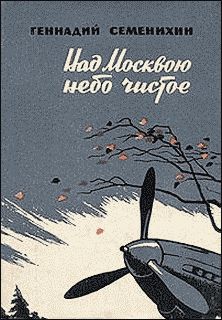Войцех Жукровский - Каменные скрижали
Эти слова я обращал к тебе и нынче ночью переношу их на бумагу. Я подошел к каменному цоколю, но тут по аллее из парка выкатился танк и ошпарил площадь пулеметным огнем. Клянусь, это было как в дурном сне… Я даже не испытал страха, словно все это лично меня не касалось. Поглядывал себе из-за гранитного цоколя, надо мной торчали гигантские сапоги, издевки ради заткнутые сверху пучками соломы. Посреди пустой площади одиноко лежала статуя, обращенная мертвым усатым лицом к низкому небу, и в неверном отблеске ракет со стороны Дуная казалось, что она насмехается над нами… Танк выехал на площадь и взялся расстреливать брошенный трамвайный вагон, вышибая остатки стекол из разбитых окон. Танкисты опасались засады. Потом покачивающиеся тонны стали поплыли в сторону парка. На асфальте остались отпечатки следов гусениц. За железнодорожным мостом посверкивало, оттуда доносились методичные автоматные очереди. Я стоял один посреди площади рядом с лежащей статуей. И вдруг увидел, что из ее пустой утробы выползает, волоча куртку, тот самый укротитель, тот самый мститель, оказывается, он прятался там. Он поплевал на ладони и ударил молотом по бронзовой голове, застонавшей, будто треснутый колокол. Отзвук удара выманил зевак из подворотен, снова началось движение, перебежки вплотную к стенам домов.
Жаль, ты не видел, так хоть прочти об этом. Не вышло у меня закончить письмо. Продолжаю после двухдневного перерыва. Сегодня я видел расстрелянных у стены кладбища. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, словно в поисках тепла. Мне сказали, что это доносчики, агентура. Кто-то их якобы узнал, созвал с улицы народ, их схватили и выдали в руки рабочей милиции. А та прикончила их без суда и следствия. Я с народом столицы, этот мощный поток увлекает меня, но бывают минуты, когда, отпуская грехи, рожденные судорогами ненависти, торопливо толкую себе: „Так должно быть, это цена, которую нужно платить“, я чувствую, как у меня холодеет лоб. Куда повлечет нас эта бурная струя? Иштван, толпа — это ужас. Хорошо, что тебе не пришлось это видеть… Сталин твердил: „Пусть погибнут десять невинных, лишь бы не уцелел ни один враг“. И это было преступление. Но сегодня с той же поспешностью карают неправедно, мне уже рассказывали о повешенных без вины, улица объята какой-то устрашающей горячкой, сводят счеты, словно не верят, что отныне воцарится правосудие и открытые трибуналы воздадут виновным должное. Толпа жаждет правосудия немедленно, не сходя с места, требует крови за кровь, поминая перенесенные унижения, избивают офицеров-следователей, прежних владык над жизнью и смертью-, плюют им в лица, а они не смеют стереть плевков, стекающих со лба… У них мертвый взгляд, они знают, что их ждет. Что делать, Иштван? Прощать? Завтра же они опомнятся, страх пройдет, и они сочтут великодушие нашей слабостью или, что хуже, глупостью. Что им нация, что им социализм, им лишь бы стакнуться. Им власть нужна, упоительное чувство безнаказанности. Они презирают тех, от чьего имени лезут вперед, считая их отбросами. Нет, ты скажи, как поступил бы с судьями, которые осуждали невинных, приходили на процесс с приговором в папочке, который им заранее продиктовали по телефону, как поступил бы со специалистами по заплечным делам, которые ногти вырывали, мучили физически и морально, пытками вынуждали подписывать оговоры и признания в несовершенных грехах? Что сделал бы ты с врачами, которые, обрекая политзаключенных на карцер теснее гроба, на выстаивание по колено в воде в подвале, цинично приговаривали: „Человек не лошадь, выдержит. А не выдержит, тиснем в свидетельстве о смерти: грипп, сердечко подвело. Пломбу на гроб, и вся недолга“? Дал бы им улизнуть? А не раздавить ли их, пока они у нас в руках? Пока пальцы рабочих так вцепились в их бритые разжиревшие глотки, что из них лезет хрип ужаса? Или затеем нынче игры в следствие, суд и справедливый приговор, чтобы завтра они попали под амнистию? Ведь они не просто уничтожали людей, они уничтожали социализм, крушили нравственные устои, запугивали и растлевали молодежь. Вокруг кипит, я мечусь вслепую, я не знаю, кому верить, так много противоречивой информации, и все из уст прямых свидетелей, все яростным криком, все клятвенно подтвержденное, люди видят то, что хотят видеть, Иштван, ты счастливчик, что далеко от этого, когда ты приедешь, ты вернешься уже на готовое. Отчаяние велит рубить сплеча. Слышно, как на Кольце грохочут танковые патрули, ревут моторы. Дали бы нам самим очиститься, это надо делать собственными руками. Без чьей-то помощи. Так делают поляки… О них много говорят, ставят их в пример, но они понятия не имеют о том, что у нас творилось все эти годы. Они никогда не следовали за немцами. Не глотали этой отравы.
Иштван, Комитет заседает непрерывно, огни горят день и ночь, яростные голоса перебивают друг друга, входят вооруженные делегаты, в гардеробе вешают не плащи, а винтовки. Чую, как содрогается венгерская земля. Грозная пора. Под окнами идет шествие, молодежь восклицает: „Не верьте Надю. Он болтун“, „Вся власть революционным комитетам!“. Я иду с улицей. Я иду в толпу. Это бурная река. Я ей доверяюсь. Я хочу добра этой нации, я хочу добра Венгрии.
Обнимаю тебя. Твой Бела.
P. S. Прошло два дня; Затихло, можем быть довольны. На почту не полагаюсь, она еще действует кое-как, отдаю это письмо журналисту из Вены, который нынче уезжает, потому что у нас ничего из ряда вон выходящего не происходит. Слава богу. О таких коммюнике можно только мечтать, 3 ноября 1956, Будапешт.
P. S. Еще одно: верь мне, изо всего этого водоворота мы выкарабкаемся целы-невредимы, не может быть так, чтобы в нашем лагере два социалистических государства, две армии, связанные оборонительным союзом, обратили друг против друга оружие.
Твой красный Бела».
Тупо смотрит Иштван на карту Индии, на треугольный контур материка, похожий на засохший ломтик сыра. За окном безоблачное небо и время от времени блеет автомобильный гудок. Опять забыл запереть машину, и наверняка за баранкой опять пристроился Михай.
«А на рассвете следующего дня…» — возвращается зловещее воспоминание. Как ты мог им поверить, Бела? Нация это не толпа, которая топчет портреты и витийствует на площадях, потрясая выхваченным у солдат оружием. Да, теперь легко остерегать. И с каждым днем, чем дальше от памятной даты, тем легче будет распознавать изначальные приметы ненависти, безумия, провокации и открытой контрреволюции. Но в гуще событий никто не хотел видеть их точно так же, как удирающие на самолете товарищи из руководства вплоть до самой вспышки не хотели слышать голосов протеста, жалоб и призывов к справедливости. Белы нет. И даже не скажешь: «Он пал». ЮПИ всего-то и сообщило: смертельно ранен при попытке перейти австрийскую границу. Значит, дал подхватить себя толпе, ринувшемуся людскому потоку, неразумной силе, надышался угара, покинул Венгрию.
Чем счесть это увядающее в пальцах письмо? Призывом? Завещанием? Или всего лишь предупреждением, коль скоро оно дошло?.. А если это знак, чтобы я не возвращался? Если родины нет, куда возвращаться? И дозволительно ли так думать даже в самый черный час?
Поскольку о смерти Белы сообщили западные газеты, его, скорей всего, похоронили в Австрии, даже не на венгерской земле. А собственно, какое это имеет значение? Магические приоритеты. Земля всюду одинакова. Нет. Нет. Та, по которой ты делал первые беспомощные шажки… В ее травах я прятал лицо, утирая слезы первого унижения. Та, по которой я в гневе молотил бессильным кулаком, за которую цеплялся, чтобы из рук не выскочила, потому что она вертелась после бешеной гонки так, что звенело в ушах. Та, которой я дал название на самом прекрасном языке, потому что это был мой собственный, венгерский язык. Она ждет меня, знаю, что ждет. Мое, не по мне малое место.
Со смертью Белы и я рухнул, рассыпался, у меня больше нет свидетеля детских игр, купанья коней, странствий на заросший ракитой островок посреди Дуная, когда внезапный коварный паводочек чуть не утопил нас, спавших в шалаше. Одному-единственному Беле я сказал, что люблю Илону, еще тогда, когда школу кончал. Готов был убить его, когда он выхватил у меня ее фотографию и стал дразнить, скача по партам и держа ее над головой, а потом, когда я поймал его, бросил карточку ребятам, и те возвратили ее изуродованной, с пририсованными усами и бородой. Тогда я пожелал ему смерти. Вот он ее и принял. А ведь я его любил, ведь он знал меня, делил со мной тревоги, столько ночей в разговорах до рассвета. Мы с горечью называли это игрой в спасение родины. Преданный друг. Великолепный товарищ, умевший радоваться жизни. Легкий на подъем, открытый для самой невероятной идеи. Не может быть, чтобы воздух сомкнулся над ним, как вода, и следа не осталось.
Слово об утерянном Друге детства. О том, как умираю сам в ушедших близких. Иштвану стало стыдно. Неужели любое чувство он готов поменять на слова с подсознательным расчетом, что завтра отдаст в печать, бросит, как зерно птицам.