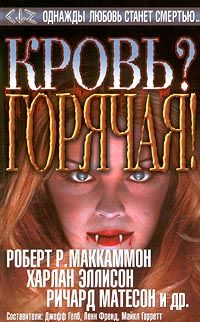Всё, что у меня есть - Марстейн Труде
На следующее утро я села на поезд до Фредрикстада. Шел дождь. Я еще не предупредила Майкен, она оставалась у Гейра. От станции до дома престарелых я взяла такси, ночью были заморозки, по заиндевевшему асфальту машины двигались еле-еле, и складывалось впечатление, что все происходит как в замедленной съемке. В маминой комнате собрались Элиза, Кристин и тетя Лив. У всех были заплаканные лица, но теперь никто не плакал. Казалось, будто первый этап уже пройден без меня и я либо должна преодолеть эту стадию одна, у них на глазах, либо просто перескочить через нее. Мне пришлось долго вглядываться в мамино лицо, чтобы увидеть родные черты: губы стали такими тонкими, почти незаметными. На подушке расползлось пятно, напоминавшее след от пролитого малинового варенья, я могла разглядеть зернышки, и почему-то это не давало поверить, что мамы больше нет. «Все счастливые детства похожи друг на друга, каждое несчастливое детство несчастливо по-своему», — почему-то сказала тетя Лив. Мне кажется, я уже слышала однажды, как она это говорила, но не могла вспомнить, когда и в какой связи. Но я помню, что слышала это в доме своих родителей и что тогда она читала «Анну Каренину», читала так же, как купленные в киоске бульварные романы, увлеченно проглатывая страницу за страницей.
Через некоторое время в комнату к маме вошел Бент и сказал, что дочери Элси должны остаться с ней наедине, и увел тетю Лив.
Элиза с незнакомым выражением, властным и виноватым, стояла между ночным столиком и окном.
— Это я позвонила Бенту и попросила забрать ее, — сказала она.
Я подошла к открытой двери и выглянула в коридор.
Бент и тетя Лив медленно удалялись. Как внезапно она постарела и потеряла все — бодрость, ум, достоинство. Она больше ничего не могла делать для меня. Потеря тети Лив поразила меня сильнее, чем потеря мамы. Меня пронзила мысль о том, что есть вещи, за которые я должна быть благодарна и за которые должна просить прощения, но я уже опоздала. К запаху больницы примешивался какой-то другой запах — капусты и грязного белья, или множества старых больных тел и человеческого жилья. Мне захотелось чего-то белого и стерильного, но вокруг были только кремовые оттенки, грязь, старые крашеные обои, грязные углы, неряшливые двери и мебель, пыль, въевшаяся между линолеумом и плинтусом, старики с безучастным видом. Я прикрыла дверь за тетей Лив и Бентом и вернулась к Кристин и Элизе; я хотела сказать им, что от внезапно нахлынувшей грусти стала сентиментальной, но не смогла произнести ни слова и заплакала. Меня обняла Кристин, но мне бы хотелось, чтобы на ее месте была Элиза. В комнату вошла санитарка, вежливо улыбнулась и положила на стул со стальными ножками сложенную простыню. Больничные сабо на босу ногу, пятки сухие и потрескавшиеся, хотя выглядела она довольно молодо.
Вскоре после маминой смерти у тети Лив диагностировали болезнь Альцгеймера, и нас это не удивило. В последний раз, когда мы виделись, — еще до смерти мамы — тетя Лив вела себя как человек, который осознает, что выпил лишку и что все вокруг это видят и понимают, что в этом состоянии она останется надолго. Ее мозг словно пытался скрыть то, что она перебрала со спиртным. Чтобы поддержать беседу, ей приходилось изо всех сил напрягаться и вспоминать, о чем она уже сказала, а о чем — еще нет, уследить за нашими репликами ей почти не удавалось. Даже в окружении домочадцев она не ощущала себя уверенно, где бы она ни находилась, у нее не было чувства защищенности — уверенность и защищенность вообще перестали быть частью ее жизни. Бент нежно поддерживал ее, заботился, помогал там, где это было возможно, с тревогой осознавая происходящее.
— Теперь стало легче, — сказал Бент, когда прозвучал ее диагноз. — Это облегчение. Я хочу, чтобы она оставалась дома как можно дольше, она же моя девочка. Я не знаю, как бы я мог лучше распорядиться своим временем.
Тетя Лив проводила у смертного одра моей мамы долгие часы. Когда я однажды приехала навестить маму, тетя Лив сидела рядом с кроватью, и складывалось впечатление, что она сидит там давно. Казалось, завидев меня, она обрадовалась даже больше, чем мама.
— Здесь такой замечательный персонал! — воскликнула тетя Лив. — Нам принесли кофе и булочки.
Мама кивнула.
— Но у меня нет сил ни есть, ни пить, — сказала она. — Вообще нет.
— Ты не привела с собой Майкен? — спросила тетя Лив.
— Майкен сейчас в Осло, — ответила я.
— Если нужно посидеть с ней, только скажи! — воскликнула тетя Лив. Майкен тогда было семнадцать лет.
— Здесь такой замечательный персонал! — повторила она снова. — Нам принесли кофе и очень вкусные булочки.
— Ну, не все здесь такие замечательные, — возразила мама.
— Моника-Моника, — продолжала тетя Лив. — В то лето, когда тебе было чуть больше годика, ты висела на мне словно маленькая обезьянка, не желала выпускать меня из виду, и мне приходилось затаскивать коляску с тобой в магазин. Если я уходила от тебя, ты орала как резаный поросенок. Я была твоей суррогатной матерью, пока твоя настоящая мама болела. Думаю, ты и считала своей матерью меня.
Обезьяна, поросенок… Только тетя Лив могла сравнивать детей с животными. Кожа маминых рук и шеи была такой тонкой, покрытой синеватыми и желтыми пятнами, похожими на синяки. Мама повернула голову и посмотрела на тетю Лив. На маме была ночная рубашка, она не надевала свою одежду уже много недель.
— Я ужасно много болела, — произнесла мама. Она говорила с огромным усилием, тело ее напрягалось, словно она пыталась сесть. Тетя Лив взяла ее за руку.
— Ты… ты столько мне помогала! — Мама выговаривала каждое слово медленно, с трудом. Как давно мне хотелось, чтобы она это признала.
Геометрический рисунок пастельных тонов на занавесках, блики на зеленом линолеуме.
— Это было в радость, — отозвалась тетя Лив. — Только в радость.
Квартира на улице Кристиана Микельсена светлая, с большими окнами, паркет лакированный. Здесь уже пять друзей Майкен, я знаю только двоих: Кристин, которая будет жить во второй комнате, и Лоне, — у обеих девушек волосы зачесаны в высокие хвосты. Двое других — молодые люди, и очевидно, что Гейр с обоими раньше встречался. Внизу у машины они подали мне руку и представились: Макс, Томас, а потом перенесли все, что лежало в прицепе, в квартиру.
Припарковав машину, приходит Гейр. На лице Майкен застыло вечное пренебрежительное выражение бывалого человека; есть что-то искусственное в том, как она разговаривает со своими друзьями, и что-то еще более ненастоящее, когда она обращается ко мне или к Гейру. Вдруг в квартире появляется еще один молодой человек, он подходит к Майкен и долго целует ее в губы. Когда он разжимает объятия, она громко смеется, запрокинув голову, и напоминает мне в этот момент себя саму, четырехлетнюю. Она всегда была актрисой, самоуверенной, радующейся жизни.
Гейр поднимает столешницу письменного стола и спрашивает, куда ее нести.
— Может, мне ее прикрутить прямо сейчас? — спрашивает он.
— Не-е-е, не надо, я думаю, мне поможет Фабиан, — говорит Майкен. — Правда же, Фабиан? Ну, или ладно, ты тоже можешь. Пап, да, прикрути-ка ты.
Майкен ведет себя так, словно щедро раздает задания не в меру ретивым помощникам.
— Майкен именно такая, какой должна быть, — заметил Толлеф, когда Майкен было пятнадцать. — Будь она такой, как хочется тебе, ее вообще невозможно было бы выносить.
Вспоминается Терье, который безразличным тоном говорит:
— Думаю, тебе надо иногда говорить свое веское «нет». Потому что, поощряя такое поведение, ты оказываешь ей медвежью услугу. Тебе же вместе с ней жить, по крайней мере еще какое-то время, разве нет?
Майкен ходила по дому и демонстрировала черты характера, которые, как она настаивала, и составляли ее индивидуальность, но на самом деле были лишь проявлением подросткового возраста. Она во всем искала подвох, все принимала в штыки, любой нейтральный комментарий воспринимала как оскорбление. Завтраки готовила себе сугубо экзотические — заливала мюсли фруктовым кефиром, добавляла туда тыквенные семечки и сушеные ягоды годжи. Накладывала на лицо маску для жирной кожи, наносила на волосы средство против секущихся кончиков и все время отправляла и получала эсэмэски, при этом требуя, чтобы ее воспринимали всерьез.