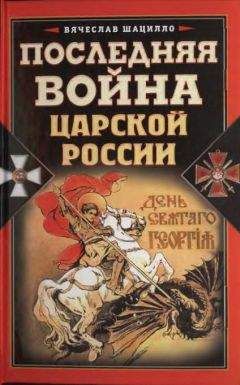Василий Белов - Год великого перелома
У Серёги ныло в груди от материнского крика. Он оглянулся на Ольховского гостя, ища спасения. Но тот и сам не знал, чего делать, куда ступить. Оба потерянно поплелись от реки в гору.
Аксинья с растрёпанной головой вылетела из летних ворот в ступнях на босу ногу:
— Ты где шляешься, сотонёнок? — закричала она ещё издали. — Тибя где бесы-ти носят, нечистой дух? Чево встал как пень? Тибя где это леший носит?
Ругань сыпалась вроде бы на одного, но Алёшка-то знал, что ругают двоих. Серёга в ужасе, уже хлюпая носом, приблизился к матери. Никогда он не видел её в таком злом, неприятном виде, никогда в жизни… Она схватила одной рукой еловый пруток, оставленный дедком от подстилочной хвойной лапы, другой рукой загребла голову сына подмышку и начала бить по спине и по ягодицам… Она остервенело хлестала Сережку, сама вся в злобных слезах, кричала на всю Шибаниху… — Бесы, лешие рогатые, сотоны! Бесы, лешие… Алешка всем телом чуял каждый удар по Сереге, он знал, что божатка Аксинья хлестала Серегу вместо него…
«Мама, ты што это делаешь, разве с ума-то сошла!..» — услышал Алешка голос Веры. Серёга вырвался из материнских рук. В страшном отчаянии, не помня себя, побежал он прочь от родного дома. Слезы его душили, он бежал прочь, не зная куда. Никогда, никто из родных не трогал его даже пальцем! Все любили его, а тут мать, да еще на виду у Алешки. Еловым прутом!
Сережка убежал на гумно и зарылся в солому. Вера видела, как брат оставил на грядках даже холщевую сумку с книжками. Аксинья накинулась теперь на зятева брата Алешку, стоявшего в каком-то оцепенении:
— А ты чево стоишь? Чево рыло выставил?
— Мама, опомнись! — Вера Ивановна бросилась к матери, пытаясь ладонью зажать искаженный злобой материнский рот. — Маменька, не говори ничево…
Алешка тоже поплелся, не зная куда, наверное, обратно в Ольховицу. Ведь он был гость в этой деревне…
Большой живот мешал Вере Ивановне, слезы давили горло.
— Олеша, остановись! — кричала она. — Олеша, не бегай, погоди чего-то скажу…
Но Алешка, не останавливаясь, уходил прочь.
Аксинья хряснулась лицом вниз на прогретую солнцем прошлогоднюю картофельную ботву и начала причитать. Руки ее верстали влажную черную землю. Кокова развязалась, и волосы раскидались:
Ой, да несчастная ты моя головушка,
Ой, да разнесчастная пошто уродилась-то я.
Ой, не троньте меня, некто не трогайте.
Ой, куды мне толере деваться-спрятаться?
Вера Ивановна подскакивала к матери то с одного, то с другого боку, большой живот не давал наклоняться:
— Маменька, очнись! Ну, кто причитает на грядках-то? Вставай, ведь мне тебя не поднять! Ой, тошнит, ой и в глазах потемки…
Вера на коленях стояла на грядке. Аксинья сразу оборвала причитанья, вскочила на ноги и уже сама начала поднимать с колен огрузневшую Веру:
— Верушка, Верушка… Вставай, андели! Ой, чево будет-то… Господи, спаси-сохрани…
— Мама, беги за баушкой Таней, — проговорила Вера, хватаясь за сердце. — Вроде бы время пришло. Беги, да Павла-то не зови и не сказывай. Не веди меня домой, веди в баню-то… Еще не выстыла! В баню меня, тут ближе. Под гору-то я и сама… А ты за Таней беги… Да Олёшку-то вороти… Ради Христа, вороти назадь…
В бане было еще тепло с позавчерашнего. Вера опустилась на первый широкий полок, сердце начало биться ровнее. Два-три судорожных рывка вышибли память. На лбу выступил пот. Посиневшие губы чуть шевелились. Вера Ивановна шептала молитву в затемненном сознании.
— Ой, маменька, куда ты девалась-то? — закричала она в страхе и вдруг… Вдруг все кончилось. Вернулась и память, и сердце забилось ровно, как бы ничего не случилось. Она послушала сама себя и со стыдом поднялась на полке: «Господи, зря всех всполошила. Рано видать. Таню-то баушку зря приведут… Стыд. Маменька из-за курицы на Сережку взъелась. Сроду парнишка не колотила. Нонче еловым прутом… Господи, и чего спрашивать? Ревит маменька кажинную ночь. От тяти нет ни письма, ни грамотки, увезли неизвестно куда. Дома все из рук валится, того и гляди и за Павлом придут. А вчера запела еще и курица. Рехнулась рябутка-то, второй день поет и поет. А вить говорят, что когда курица в доме поет — к покойнику… Худо, когда курица петухом поет, хуже нельзя… Сережку кричали, чтобы курицу изловил. Ой, Господи, а Олешка-то? Что нонче будет с ним, убежал неизвестно куда».
Ее охватил страх, она снова почуяла приближение родовых схваток. «Стыд, — шептала она сама себе. — Куда девался Олешка-то, куда побежал? Не дай Бог ночевать не придет. Как товды Павлу в глаза-ти глядеть? Свекровушка лежит в Ольховице, едва бродит. Свезли немного харчей, а Олешка с Сережкой иной раз оба ночуют в Шибанихе. Из школы бегают за шесть верст. Народ говорит, что Олешка по миру было пошел, а брат — Павло корзину с кусками ногой пнул… Привел парнишонка домой. Никто слова не молвил. А севодни маменька обругала: «Чево рыло выставил?» Кабы свой был… И своендравен тоже, уйдет ведь куда глаза глядят. Господи, вот горе-то! Бежать надо, пока Павла-то нету».
… Павел, пришедший домой на третий день Пасхи, с неделю ходил по деревням, искал деньги в долг, чтобы заплатить две сотни налогу, да ничего почти не нашел. Мельница, правда, толкла и молола. Только лучше бы она ни толкла, ни молола…
Вера Ивановна вспорхнула с места и схватила было вересковую гнутую скобу, чтобы бежать искать Павлова брата Алешку. Да и своего брата Сережку надо было найти и приютить.
Все тело ее вдруг замерло и затем сотряслось от непререкаемо-властного внутреннего толчка. «Мама!» — крикнула она в страхе и по звериному. И сразу забыла про все на свете. Очнулась, когда повитуха, кривая баушка Таня, уже шептала в бане молитву и шмыгала носом. Вместе с Аксиньей она хлопотала около Веры Ивановны:
— Дверинку-то, дверинкуто притвори, Оксиньюшка! Не приведи Господи, мужики-ти учуют да подсоблеть прибегут… Господи, спаси и помилуй! Кричи, матушка, кричи, не томись!
Роженица не хотела кричать. Она душила свой крик, и женщины до пота трудились все трое. Напряженно и хлопотно трудились, пока не стало их четверо. Другой прерывисто-тоненький крик как бы сразу раздвинул каленые стены роговской бани.
В деревне Шибанихе стало больше на одного человека: Вера Ивановна Рогова родила второго сына.
Того же дня, вернее глубокой ночью, баушке Тане пришлось бежать в избу к Самоварихе. Дочь Евграфа Палашка Миронова, двоюродная сестра Павла, прямо на широкой самоварихиной печи принесла выблядка. И к полудню из многих домов обеим роженицам люди носили по пирогу. Все поздравляли и глядели младенцев. У Роговых Таисья Клюшина разводила руками. Она только что положила на залавок свежий рыбник: