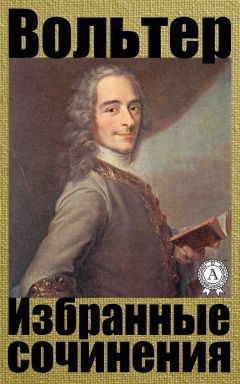Гай Эндор - Любовь и Ненависть
Среди таких священников был и некий аббат Лоррен Голтье, который служил капелланом в лечебнице для неизлечимых больных и священником в приходе Святого Сульпиция. Он, в отличие от других, не врывался в комнату Вольтера, не изрыгал хулу и проклятия и не грозил ему адом. Он просто прислал ему очень добрую, уважительную, с горячей симпатией записку, предлагая свои услуги, если в этом у него возникнет нужда.
Вольтер мысленно приберег его для того ужасного, чудовищного момента, когда ему, по выражению Генриха IV, придется сделать «опасный прыжок» в неизвестность.
Ах, если бы можно все время жить, жить вечно, постоянно работать, учиться, одерживая один триумф за другим!
— Пусть устроят мне хотя бы приличные похороны, — однажды сказал Вольтер д'Аламберу. — Я не желаю, чтобы мое тело, пусть и такое уродливое, бросили в канаву. Или же зарыли ночью в землю, как это сделали с несчастной Адриенной Лекуврёр. Как мертвую собаку.
— В таком случае тебе придется сделать то, что сделал Монтескье, — ответил д'Аламбер. — И Фонтенель. Как и множество других. Всем им в конце концов пришлось смириться со священниками. Покаяться, назвать себя грешниками, отречься от всех своих сочинений. Принять последнее причастие и помазание. Собороваться. Мы, литераторы, все это прекрасно понимаем. И простим тебя. Ведь и для нас когда-нибудь пробьет сей скорбный час.
Вольтер энергично замотал головой. Нет! Умереть в католической вере? Ладно, это он сделает. По крайней мере, попытается. Но отречься от своих сочинений? Нет, на это он никогда не пойдет.
— Их все равно будут читать, — успокоил его д'Аламбер.
— Надеюсь, — согласился с ним Вольтер, — потому что никогда не наступит такое время, когда человек перестанет бороться с фанатизмом и тиранией.
Но все равно он не откажется от своих произведений даже на смертном одре. Даже несмотря на то, что он неоднократно отрекался от них в прошлом, когда публиковал их анонимно. Да, такое происходило неоднократно. Но одно дело — лгать людям, к этому его принуждали обстоятельства. Лгать Богу — это совершенно другое.
— Я признаю только существование Творца, больше ничего, — ответил Вольтер. — Всегда, в любую секунду, жизнь для меня — это самое убедительное, самое дорогое доказательство существования Его. А что за Ним — неизвестно. И никто этого не знает.
Он мог только надеяться, что такая разграничительная линия поможет ему добиться разрешения на достойные похороны.
Однако черные мысли о смерти не мешали Вольтеру использовать каждую оставшуюся минуту в его жизни до конца. Если человек смертен, то это еще не означает, что он должен похоронить себя живьем. Как это сделал, например, Руссо. Он похож на человека, который, оказавшись на тонущем корабле, начинает уже плыть, не окунувшись в воду. Ни на минуту Вольтер не приостанавливал своей лихорадочной деятельности, по-прежнему оказывая свое уважение друзьям и гостям.
Тем не менее, несмотря на все его занятия, мысль о смерти постоянно возвращалась к нему. Особенно она донимала его, когда он посещал маркизу де Гуверне, которая шестьдесят лет назад была такой восхитительной, но не столь талантливой актрисой Сюзанной Леври, его любовницей, с тех пор за ней долго ухаживал и в конечном итоге добился своего маркиз де Латур дю Пен де Гуверне, который женился на ней и привез ее в свой пышный дворец, в котором она царствовала, как фея цветов.
Потом маркиза стала такой примерной, что всячески старалась скрыть свое прошлое, и когда Вольтер посещал ее, она приказывала своему дворецкому захлопывать двери перед его носом. Тогда он отправился домой, где написал свою замечательную поэму «Послание о «вы» и «ты», в которой говорил об изменении к нему отношения со стороны Сюзанны Деври, которая перешла с интимного «ты» на формальное «вы».
Но теперь, пятьдесят семь лет спустя, теперь, когда она постарела, овдовела, она вновь радушно распахивала свои двери перед таким же старым, как и она, Вольтером. Маркиза приняла его, сидя в мягком кресле, приставленном к стене. А над головой ее висел портрет молодого Вольтера работы Ларгильера. Вероятно, она хотела тем самым сказать ему: «Вот каким я хочу сохранить вас в своей памяти — молодым и красивым. Попытайтесь и меня представить такой же».
Но как это сделать? Они так и сидели друг против друга, не смея развязать языки. И расстались без слов.
Вернувшись домой, Вольтер вымолвил: «Сегодня вечером я переехал через Стикс[260]. Придется переехать еще раз». Он подумал о той жатве, которую собирала смерть. Умер Тьерио и маркиз Вовенарг[261]. А сколько еще других!
На следующее утро, очень рано, когда Вольтер сидел в кровати и диктовал Вагниеру несколько новых строчек, вкладывая в них привычный свой театральный жар, он вдруг сильно закашлялся. Сплюнув, он увидел в своем плевке крошечную красную спиральку. Это его сильно обеспокоило. Откашлявшись еще раз посильнее, он снова выплюнул. Сейчас в плевке было еще больше крови. Еще раз, и тот же результат. И вдруг кровь потоком хлынула у него горлом, через ноздри, заливая ночную рубашку и простыни.
Вагниер, подскочив на месте, ринулся к звонку. Вошла мадам Дени. Вскрикнув от ужаса, она кинулась вон из его спальни, чтобы позвать доктора Трончена, который тоже переехал в Париж. Вскоре в его спальне собрались домочадцы — все суетились, советовали, что делать с мокрыми, пропитанными кровью полотенцами. Но кровотечение не унималось.
Приехал доктор Трончен, все немедленно удалились, и он, выкачав у пациента литра полтора крови, все же остановил кровотечение. Теперь струился лишь крохотный ручеек. Причиной кровотечения стали не больные легкие, а разрыв кровеносного сосуда в горле, что, конечно, куда более серьезно. К Вольтеру приставили сиделку, не допускали к нему посетителей. Вольтеру запретили разговаривать, но никакой нужды в таком запрете, по сути, не было, так как он настолько ослаб, что не мог произнести ни слова. Теперь все его силы обращены на одно — на борьбу за эту жизнь, которая все еще теплилась в нем. Он спрашивал себя: неужели его лишат этого сладостного, триумфального момента, которого он ждал столько лет? Как Моисею было отказано войти в землю обетованную, к чему он стремился всю жизнь[262].
Ах, если бы только помолиться! Но кому? Богу? Нет, это безумие. Бог! Творец! Перед которым он однажды, много лет назад, упал на колени. Однажды ночью, когда они с маркизой дю Шатле оказались одни на дороге, а их карета неожиданно сломалась. Они сидели вдвоем на обочине, разглядывая звезды на небе. Каждая крохотная точка на небе, а их там были миллионы, на самом деле была солнцем. И только одному Богу известно, сколько планет вращалось вокруг каждого такого солнца и сколько миллионов, даже миллиардов таких вселенных существует. Стоит ли удивляться, что тогда, в ту ночь, он упал перед Творцом на колени?
Но молиться? Нет, он не мог. Как он мог молиться такому Богу? Словно он был с Ним на дружеской ноге, мог описать Его, сказать, например, какого Он цвета, какие у Него формы? Это все равно как если бы у него в Фернее, в его дворце, муха, угодив в паутину паука в темном уголке подвала, начала бы молиться, чтобы ее спас из плена хозяин замка. Эта несчастная муха могла сделать вывод, что в этом замке нет хозяина, что никакого Вольтера не существует только потому, что никто не ответил на ее молитву. Никто не спас ее от смерти.
Нет. Можно только поклоняться Богу. И Вольтер на самом деле ему поклонялся. Он его обожал. Вот теперь он лежал на своей кровати и поклонялся ему, но ни одна мольба о милосердии не слетела с его губ.
Тем временем весть о его болезни разлетелась по всему городу, и теперь его дом казался еще в более усердной осаде, — все интересовались состоянием здоровья поэта, все хотели ему помочь. Академия даже начала ежедневно вывешивать бюллетень о состоянии здоровья Вольтера для информации своих членов. Словно заболел не Вольтер, а король Франции.
Бернанден де Сен-Пьер сообщил дурную весть Руссо.
— Вольтер умирает, — сказал он.
Подумав немного, Руссо ответил:
— Он будет жить.
Бернанден не разделял его мнения:
— В таком возрасте? После такого сильного кровотечения?
— Он будет жить. Он будет жить! — повторял Руссо. — Вот увидите.
Вольтер не мог умереть. Он должен жить. Когда же люди жили без Вольтера? Руссо не мог припомнить такого времени. Он даже не мог себе представить такое. Ведь он, Жан-Жак, был скитальцем в молодые годы, по существу никем, а Вольтер уже был Вольтером, которому люди восторженно рукоплескали, говоря о нем с большим уважением и волнением. И вот теперь, полвека спустя, когда он, Жан-Жак, по-прежнему никто, люди все еще аплодируют Вольтеру и по-прежнему говорят о нем. Как же Вольтера вдруг не будет? Нет, такое просто невозможно.