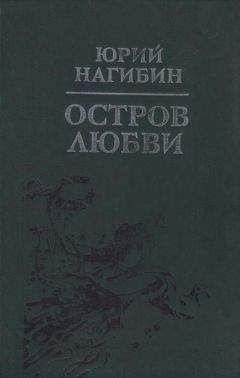Юрий Нагибин - Любовь вождей
Их быстрота, удаль, бесстрашие перед смертью завязли в русском неповоротливом, упрямом бездействии. Великий князь Иван III, первым принявший сан царя, никогда никуда не спешил. Можно подумать, что неким таинственным путем ему ведомы были ходы истории и обреченность прежде всесильных врагов. Не надо ни помогать, ни мешать предопределенному ходу вещей. Он так поступал всю жизнь, и у него все получалось. Медленно, тяжело, неторопливо свершился поворот исторического руля. В одно туманное, седое утро задрожала земля под копытами татарской конницы, и, не потеряв ни одного человека убитым или раненым, не причинив и неприятельской рати даже малого ущерба, степняки унеслись в пустоту своей никому уже не интересной судьбы.
И, думая об этом по утрам в просквоженном солнцем деревянном щелястом домике деревенской уборной с краю небольшого огорода, поступившего в мое владение вкупе со всей усадьбой, я перекидывался мыслью к сегодняшним дням и спрашивал себя: когда же новая злая сила, покорившая Русь всего семь десятков лет назад, но доконавшая куда сильнее татар, поймет, что ее историческое время истекло, и перестанет гадствовать, цепляться за призрак былой власти, мимикрировать, выворачиваясь наизнанку, и ускачет в свою пустоту? В дремотном бредике мне представлялось, что я должен пересидеть ее здесь, в смрадной крепостце на берегу Угры, в мудром Ивановом ожидании, явив миру после великого угринского «стояния» столь же великое угринское «сидение». Возможно, после всех событий последнего времени у меня слегка поехала крыша…
Человеку, измученному крошечными и скверными городскими уборными, особенно в совмещенных санузлах, где ты зажат между холодной фарфоровой скулой умывальника и облупившейся стеной, балансируя на шатком, готовом рухнуть унитазе и почти всегда оторванном, сползающем, выдирающемся из-под тебя стульчаке, понятно будет то наслаждение, которое дарит утреннее посещение просторной, уже согретой солнцем, но приятно продуваемой ветерком деревянной смолистой наземной скворечни. Хотелось остаться там навсегда, независимо от социальных, политических расчетов, по-лермонтовски забыться и уснуть, чувствуя дремлющие в груди силы и свою тихо вздымаемую дыханием грудь.
Но, жертвы цивилизации, мы не можем перемогать жизнь в блаженной отключенности от той нервной, перенасыщенной информацией суеты, которая подменяет нам душевную жизнь. И я стал вытаскивать из ящика для бумаги — пипифакса, естественно, не было в деревенской глуши, как, впрочем, и посреди шума городского, — машинописные листы и читать их. Меня не удивила эта письменность — второй экземпляр рукописи, аккуратно перепечатанной на качественной финской бумаге, поскольку покойный хозяин избы был литератором. Во всяком случае, считался таковым, сотрудничая в патриотических изданиях: «Наш сотрапезник», «Молодая лейб-гвардия» и военной газете «Утро». Писал он все больше по национальному вопросу, столь дорогому для этих изданий, совершал экскурсы в историю, углублялся в классическую и современную литературу, исправно участвовал в митингах и культурных мероприятиях патриотов, вечерах с песнопением, водосвятием и преданием анафеме инородцев, но был мало приметен на общем сером фоне заединщиков. Лишь раз привлек он внимание общественности коротким бурным романом с одной из тех горластых литературных климактеричек, которыми почему-то богато русское движение; эти беспокойные дамы принимают свой половой дискомфорт за любовь к простому народу. Как положено в этом кругу, роман завершился мордобитием, врезанием нового замка в дверь, доносами и разбирательством на парткоме — песнь любви была пропета до конца. Потерпев моральный и материальный ущерб, кавалер вернулся к старой жене, на тихий берег Угры, но вскоре отбыл в лучший мир, чего в худшем никто и не заметил.
Словом, это был типичный представитель того не умственного, не духовного, не социального, не политического, а чисто физиологического движения, суть которого в утробной ненависти к мифическим жидомасонам.
Я, конечно, его не читал. Но поскольку все патриоты пишут об одном и том же и совершенно одинаково, имел отчетливое представление о его литературе. И меня нисколько не удивило, когда на первой же попавшейся странице я наткнулся на рассуждение о еврейских кознях, приведших ко Второй мировой войне. Ничего оригинального тут не было: буквальный пересказ «открытия» шизанутого историка Климкова, потеснившего со страниц «Нашего сотрапезника» крупнейшего теоретика погрома Запасевича. Климков «доказал», что войну развязали евреи руками евреев же: Гитлера, Геббельса, Гиммлера, Розенберга, Риббентропа, Бормана, Гесса, Кейтеля, Кальтенбруннера и, для отвода глаз, одного немца Геринга, правда, женатого на еврейке. Дьявольски коварный план состоял в том, чтобы геноцидом, печами Бжезинки, Освенцима, Бухенвальда, Майданека, Маутхаузена вызвать в мире сочувствие к евреям и на этой моральной базе создать государство Израиль.
Я прочел эту галиматью и с удовольствием использовал листок по назначению.
Другой раз я вычитал рассуждение — опять-таки по Климкову — на тему Первой мировой войны. Ее развязали, естественно, все те же евреи, захватившие немецкий генеральный штаб и царское правительство. В России вообще все оказалось в руках евреев: царский дом, министерства, армия, флот, промышленность, сельское хозяйство, искусство, литература, журналистика, образование. Возле трона остался лишь один русский человек, старец-праведник Распутин, но был зверски умерщвлен жидомасонами Эльстоном и Пуришкевичем. Листок был отправлен по назначению.
В очередной раз я обласкал свой зад, как выражался малыш Пантагрюэль в беседе со своим маститым отцом Гаргантюа об утреннем туалете, размышлением об Октябрьской социалистической революции, содеянной еврейским синедрионом во главе с Бланком и Бронштейном по прямому указанию Сиона. Все это были старые запетые мотивы. В который раз, знакомясь с сочинениями патриотов, я удивлялся, почему они так унижают великий народ. Если верить им, русские не были участниками собственной истории, так и просидели на скамейке запасных, пока инородцы гоняли мяч по их полю.
Обратило на себя внимание и то, что автор называет творцов и распорядителей бесовских акций не сионистами или жидомасонами, как положено, а Вечным жидом. Такой прием естествен в художественной литературе, но странен и не вполне корректен в научном исследовании. Впрочем, суть от этого не менялась, равно как и предназначение листка бумаги с письменами. Непонятно было и само назначение трактата. Климков изложил свое учение настолько простыми, общедоступными словами, что ничуть не нуждался в адаптации, комментариях, расшифровке, переводе на какой-то еще более примитивный язык. Да этого и нет, слово автора из уборной гуще, плотнее и труднее прозрачной климковской хрестоматии для умственно отсталых.
Но следующий визит в отхожую читальню принес неожиданность. Случайно я выхватил из ящика первую страницу рукописи и с удивлением прочел заголовок: «Ничто не вечно…» С еще большим — идущее с отточия начало текста: «…даже Вечный жид». Я стал читать дальше и с каждой строкой все больше убеждался, что передо мной не научный труд, не публицистика, не популяризация, а художественная проза — большой рассказ, написанный весьма уверенной рукой, в манере обстоятельного, неспешного, едва ощутимо ироничного повествования. Проза художественная не только по намерению, но и по отчетливым беллетристическим способностям автора.
Я стал читать и зачитался настолько, что не обратил внимания на неоднократные попытки кого-то из домашних сменить меня на посту. Очнулся от мощного дробного шума на задах кабины. Это мой молодой шофер, не выдержав, справлял малую нужду, расстреливая, как из пулемета, тугие, гулкие листья лопухов.
Тогда, забрав рукопись и сожалея о непроизвольно сделанных купюрах, я покинул убежище.
Прочтя же рассказ, я перестал жалеть о потере нескольких страниц — то был непереваренный в горниле художественного творчества публицистический материал. То ли автор еще предполагал работать над рукописью, то ли специально не перевел в беллетристику рассуждения Климкова для придания пародийного научного правдоподобия своей занятной ахинее.
Но, вообще говоря, это не пародия на историческое повествование, ибо тут нет намерения высмеять какую-либо литературную манеру, стиль, способ мыслить. Иногда кажется, что автор вполне серьезен, что он сам верит — дневному разуму вопреки — в то, что выводит его рука. Тогда это некий беллетристический юдофобский апокалипсис — порождение ужаса от явленного воочию будущего землян. А порой проглядывает откровенное издевательство над теми, чьи взгляды он разделял и поддерживал, над союзниками, братьями по духу и высоким истребительным целям.