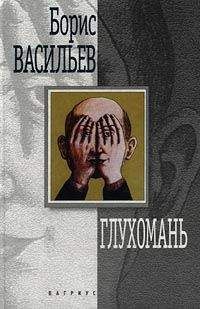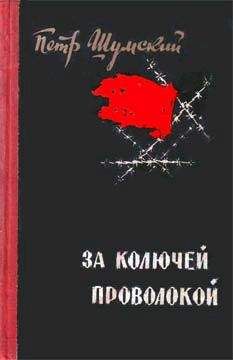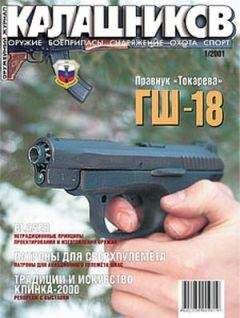Борис Васильев - Глухомань. Отрицание отрицания
— Кто его знает. В России все возможно, кроме демократических реформ. Их не воспринимает наш менталитет.
— Вот их-то я и имею в виду. В чем, по-вашему мнению, заключена загадка, почему народные массы, не размышляя, ринулись за большевиками? Да в том, что их устраивал основополагающий лозунг обещанного царства социализма: от каждого по способностям, каждому по потребности. Вот это Россию устраивает полностью, землю она ковырять не очень-то любит, а перекуривать — с нашим полным удовольствием. Вы скажете, а как же с энтузиазмом масс? А никак, его нет, не существует он в природе в виде, так сказать, насущной потребности взрослого человека. Молодежь — да, она склонна слышать рев труб, гром литавр и цимбал, но взрослый человек жив семьей своей, в семейной тишине и спокойствии. То есть, в гармонии, а не в грохочущем энтузиазме. Детей исстари в гармонии воспитывают, и церковь эту гармонию всячески поддерживала. Храм Божий — особенно на селе — был спасением от громкого мира, от всяческих свершений, которые необходимы для будущего царства всеобщего равенства удовольствий, но отнюдь не равенства труда, потому что труд не может быть равным. Не может изначально, ибо в нем заключено творчество.
— Извините меня, но я утратил суть, — вздохнул Александр. — Может быть, не вовремя задумался.
— А суть в том, что при такой искусственной организации труда динозавр рано или поздно начнет пожирать себя. То есть, торговать собственными недрами, а не воспроизводимыми товарами, как то делают развитые страны.
Разговор шел вяло и неинтересно, и Анечка сердилась на отца. Не только потому, что он его начал, сколько из-за того, что Голубков задерживал Александра, тем самым отнимая его у нее. У Анечки весьма высоко проявлялось чисто женское чувство собственности, в особенности, если мужчина ей нравился. И отец не мог не знать, что он ей нравится, а поди ж ты, упрямо держал его, а время текло и текло…
— … Грубость для русского человека — акт самоутверждения. Утверждения за счет унижения другого…
Дальнейшим разглагольствованиям помешал звонок в дверь. Платон Несторович сразу замолчал, но не забеспокоился, а с удовлетворением сказал:
— Открой дверь, доченька. Видимо, это из милиции, так что вы, милостивый государь, временно удалитесь.
Анечка подождала, пока капитан скроется в коридорчике, который вел в морг. Там был запасной выход. А как только Александр вышел, тотчас же открыла дверь, искренне удивившись при этом:
— Вот уж кого не ждали!
Вместе с нею в гостиную вошел прапорщик Богославский, одетый почему-то в темную одежду дьячка.
— Выгнал меня дядюшка мой, — сказал он, поклонившись. — Изыди, говорит, и сам спасайся. Кругом одни красные, а я и на воротах храма собственного распятия не желаю. Справку, правда, дал, будто дьячок я его прихода.
— Это упрощает задуманное, — улыбнулся Платон Несторович. — Позови капитана, Аничка.
Александр очень обрадовался внезапному появлению боевого товарища. Однако радость свою привычно сдержал, лишь крепко пожав ему руку.
— Мне случайно удалось узнать, что на лесопилке будто бы готовят баржу с досками для сплава на Рославль, — сказал прапорщик. — Если бы ночью пробраться к ней и залезть…
— Ждать, — отрезал Платон Несторович. — Терпеливо ждать, вот в чем основная задача.
— Чего ждать? — сердито спросила Анечка. — Сейчас темно и, кажется, пока тихо.
— Ждать милиции, доченька. У капитана нет документов, а без них ныне и шагу не ступишь.
— А причем тут милиция? — Анечка недовольно дернула плечиком. — Она уже сплошь большевистская.
— Потому-то и процветает бандитизм, — вздохнул патологоанатом. — А трупы убиенных милиция доставляет для вскрытия, таков порядок. И я жду подходящий материал для капитана.
— В каком смысле? — усмехнулся Александр.
— В смысле подходящей фактуры и документов, капитан. Как правило, эта красная милиция документы не отбирает, чтобы поменьше было возни, что ли. Получают от меня справку о смерти, составляют акт и отряжают команду из содержащейся в тюрьме интеллигенции на похороны. Террор весьма упрощает жизнь, почему он и неизбежен при власти дилетантов.
В начале своей деятельности Советская власть официально именовала босяков, мелкое жулье, воров, хулиганов и прочее отребье «социально-близкими», взваливая на них всю работу по разгрому интеллигенции. Тогда и был брошен в массы лозунг «Грабь награбленное!», а когда городская и сельская босота с удовольствием исполнила призыв, с грабежами и разбоями стали бороться, но как-то вяло и не очень охотно. Милиция была нацелена на криминал организованный, угрожавший самой власти, а не каждому гражданину в отдельности. Да и прицел-то был какой-то странный, будто милиция все еще ожидала возврата к помощи «социально-близких», а потому и не решалась рубить под корень.
— Если засветло не придут, значит, до утра можно спать спокойно, — сказал Платон Несторович. — Не любят они Покровки.
— Почему? — вежливо поинтересовался Богославский.
— Говорят, бензина мало, а на лошадях — далеко. А на самом-то деле местных побаиваются. Оружия раздали всем, кто просил, центр далеко, а у нас на Покровке народ дружный.
— Может, нам тоже следует поберечь керосин? — вдруг спросила Анечка. — Прапорщик с документами переночует дома, а капитана я провожу на сеновал и завалю сеном.
— Откуда у нас сеновал? — удивленно спросил патологоанатом. — Уж чего-чего, а этого у нас доселе не было.
— Я… — Анечка смутилась, так и не научившись обманывать отца. — Я спросила разрешения у соседей, и они не возражают. У Квашниных, у которых корова.
— Лучше посумерничать перед пыхтящим самоваром, — мечтательно сказал Платон Несторович: ему хотелось немного повыступать перед столь редкой аудиторией. — Летними вечерами наши предки очень любили подолгу, до полной темноты сидеть без света. В сумерках все женщины казались прекрасными, а мужчины — идеальными. И непременно рассказывали ужасные истории про вампиров, вурдалаков, оборотней, кровавых разбойников. И это было совсем не страшно, потому что было, что защищать, и было, кому защищать. И мы, как в старые, добрые времена…
— Не было, а казалось, — сердито перебила Анечка. — Сейчас сумерки не в гостиной, а по всей России, и страшные сказки уже не нужны даже детям. Все и так живут, пригнувшись от страха. Даже доблестная красная милиция, так и не посетившая нас.
— Может, в городе вообще перестали убивать? — предположил прапорщик Богословский. — Хотя это слишком оптимистическое предположение для современных сумерек.
Анечке не нравилась эта никчемная сумеречная беседа, потому что она твердо решилась. Сегодня же, без всяких отсрочек, почему и возник некий сеновал, который принадлежал неизвестно кому, но уж никак не Квашниным. Отец прекрасно понял ее, но кроме дочери у него никого не было. Да, он понимал, что однажды его Анечка найдет своего мужчину, боялся этого, ревновал, а потому и выдумал это сумерничание. Все отцы ревнуют своих дочерей, но у Платона Несторовича эта ревность была болезненной до щемящего сердца. Уж слишком он был одинок.
— … Да, рецепта сейчас никому не пропишешь…
— Все! — собравшись с духом, решительно сказала Анечка. — Милиция не явится, а завтра господа офицеры могут отправиться в путь трудный и опасный. А потому я увожу капитана с собой, а прапорщик остается, как человек легальный.
— Был человек разумный, стал человек легальный. Кардинальное изменение общества при Советской власти, — вздохнул Голубков. — Видимо, Аничка права. Пора баиньки.
Анечка увела Вересковского. Голубков помолчал, похмурился, повздыхал, подумал и принес колбу спирта и два стакана. Плеснул по половинке, придвинул графин с водой.
— Вот я и потерял дочь, — тихо сказал он и опрокинул спирт в рот. Поморщился, не запивая. — Впрочем, все естественное — разумно.
— Пью за то, что вы приобрели сына, — прапорщик тоже выпил, торопливо хлебнув воды из графина.
— Сына?.. Этот сын думает, где бы еще пострелять вдосталь. Это не сын — защитник, это сын — разрушитель, знаете ли. Каково время, таковы, естественно, и сыновья.
— Мы не выбираем время.
— Зато время выбирает вас, — Платон Несторович вздохнул, непроизвольно потер левую сторону груди. — Это вы, вы развязали эту проклятую гражданскую войну, вы…
— Успокойтесь, профессор, — недовольно поморщился Богославский. — Подумайте лучше, как счастлива сейчас ваша дочь, и с этим ощущением мы и завалимся спать.
Анечка действительно была счастлива. Счастлива всей душою, всем телом, исполнением самых тайных, самых заветных своих мечтаний, а потому и гнала из головы все мысли о конечности этого счастья. Все придет потом, потом, как легкая элегическая грусть о миновавших мгновениях полного счастья…