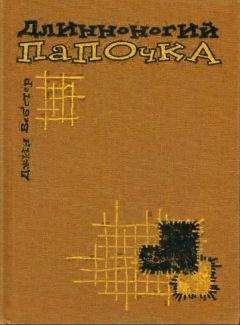Борис Цытович - Праздник побежденных: Роман. Рассказы
Непосвященный ужаснулся бы, тайком наблюдая за седеющим, в потертых джинсах человеком, — то неподвижно сидящим в кресле, то не очень внятно бормочущим, обращаясь к фотографии женщины в домино, то жестикулирующим перед портретом начальника и засыпающим со стаканом в руке.
Однажды, когда сон, чуть коснувшись головы Феликса, остановил дневные бдения, громкий голос Ады Юрьевны содрогнул и разбудил: «Приезжай в четверг в горы, будет снег». Он поймал себя на том, что сидит в кровати, а под рукой гулко бьется сердце. Приеду, успокаиваясь, решил он, но что за чушь, снегом и не пахнет. Но он уверовал, что весть серьезная. Принял ванну, перестал выпивать и, как судного дня, который изменит нечто в его жизни, стал ждать четверга.
Странно, но в середине октября и именно в солнечный четверг, когда на берегу поспевала айва, а виноград еще не был собран и море в ожидании зимних штормов лежало гладкое, синее и теплое, когда в воздухе, лишенном белесой летней дымки, стали видны дальние мысы и в синем небе осень начала закручивать в петарды белые облачка, ночью в горах выпал ранний, но глубокий снег.
Феликс выехал в горы далеко за полдень, оставив позади солнечный город. Под колесами сухо шелестел асфальт, затем зажужжала слякоть. Он ехал. Ехало и тепло, и дым волокнами, и руки на руле, и небритые щеки, позелененные светом приборов. Это он видел в зеркальце. По стеклу поползла капель. Он включил дворники, и расплывчатая дорога, домики и косогоры, мокрые и серые в сумерках, ясно проявились.
Ему было спокойно и хорошо.
Дорога вползла в расщелину. Красные кусты скумпии с глиняных откосов, отражаясь кроваво, лакировали мокрый асфальт. Феликс подсознательно не любил красный цвет, вспомнил, что и букет гладиолусов был красный, и напрягся, стиснул руль. Звук ушел, стерлось время, и он рельефно ощущал, что за спиной сидят двое — Белоголовый и Бауэр в надвинутой на глаза каске. Он не боялся их, не искал железо и не испытывал непреодолимого желания оглянуться и приподнять каску, чтобы наконец увидеть лицо Бауэра. Он как бы плыл и плыл по красной реке, и бурые холмы из-под снежных плешин наблюдали за ним молча и сурово. Это напоминание о жестоком и реальном мире, от которого ты бежишь, подумал он, теперь тебе откроется лес. Там Ада Юрьевна, там мама, там все твои. Там не нужно бороться и страдать. Господь создал его тихим и в то же время полным грустной музыки, нереальным для невидящего, но он есть. Ты знаешь это, хоть и юродствуешь и ищешь подтверждения. Впрочем, имеющий уши — да услышит!
Он напрягся, ибо все сказанное было голосом Ады Юрьевны. И ему снова стало хорошо. Колеса уже не жужжали по грязи, а бесшумно катили по снегу, деревья сбоку не зеленели, а табачно сморщили листву.
Он остановил машину высоко в горах над обрывом и долго слушал шум потока, курчаво белеющего внизу. Над ним по косогорам средь легкого, как козий пух, снега фиолетово щетинился лес, а выше на фоне чистого лунного неба сияли гранитными сколами вершины. Поток шумел, Феликс вдыхал запах снега и ждал. Он потерял счет времени, и если б разум напомнил о городах, сияющих огнями, суетных и шумных, он удивился бы, что где-то вообще есть люди: так был далек от человеческого бытия, так растворился в ночном стоянии природы.
Наполз туман, приглушил поток, лес растворился во тьме, и лишь одинокий фонарь на перевале рдел в туманном коконе. Феликс разговаривал с давно умершими, а они отвечали капелью в листву, звоном обледенелой ветви, он слушал их голоса, пребывая в высшем блаженстве. Он пожелал и сам остаться в этом лесу навсегда. Он захотел закрыть глаза и умереть, а тело пусть рухнет туда, в овраг, и пусть вода закружит в пене, разобьет о камни, да и выбросит на отмель. Как того мокрого пса в ботаническом саду.
Воду так любила Ада Юрьевна. Воды так боялся Фатеич.
Феликс вспомнил Лельку, ее белые ноги в бурьяне и звон речушки. Он не шагнул в обрыв, а пожелал, чтобы вышла луна. И когда открыл глаза, луна сияла в обледенело хрустальной паутине ветвей, а горы остро и холодно обнажили грани.
На шоссе он в восторженном удивлении увидел силуэт. Дерево или человек? Приближается, кажется, или стоит на снежной обочине? Он сел в кабину и стиснул руль.
Конечно, женщина. Конечно, приближается Ада Юрьевна, одна рука скользит по невидимым перилам, в другой мерцает бутылка.
Он разглядел леопардовую шубу, знакомую широкополую шляпу и подбородок Ады Юрьевны под ней. Он разглядел и ямочки под скулами.
Она положила шляпу на капот, пригладила волосы — в них искрился снег. Феликс разглядел и дырочки на перчатках, но более всего поразило ее лицо — белое, будто намелованное, широко раскрытые от удивления глаза, плотно сжатые губы. Боже, как неподвижен взгляд! — успел подумать он, но дверца открылась, качнулся лунный свет, и Ада Юрьевна, не скрипнув креслом, опустилась рядом. Обхватив руль, он оцепенело смотрел на шляпу перед стеклом, напоминавшую бутафорский оранжевый гриб.
Луна повела лучами и скрылась в разломе облаков. Пошел снег, тихий, невесомый. Фонарь на перевале — единственный свет — казался теперь мутным облаком. Они молчали. Ада Юрьевна затянулась папиросой, наполнив салон незнакомым Феликсу дотоле табачным запахом.
— Что за сигареты вы курите? — спросил он.
— Это не сигареты, — ответила она тихим, но заставившим его прийти в восторг голосом. — Это папиросы «Сальвэ», настоящий трапезундский табак. Их подарила мне ваша мама, Екатерина Викторовна Снежко-Белорецкая, «Сальвэ» и бутылку дикого меда.
— Вы знакомы с мамой?
— Да. Мы часто приезжаем на фаэтоне и гуляем с ней в горах. Она читает свои стихи… Очень хорошие стихи. А татарин Ахметка под кленом спит, лошадь пасется на той полянке. — Она кивнула в темноту. — А вы, однако, хороши, совсем забыли свою Аду. И поделом вам. Все мечетесь, все ищете. Все по ту сторону заглянуть норовите, а ведь все на поверхности лежит.
Она обернулась белым лицом. Снежинки не таяли на щеках. Неожиданно спросила:
— Вы любите мед диких пчел?
— Я не пробовал, — ответил Феликс.
— Глотните.
Он коснулся холодной руки женщины. Взял бутылку. Отпил.
— Нравится?
— Вкусный и удивительно ароматный.
— Грустный. Он собран с прелых венков. Мы частенько попиваем его с вашей матушкой. — Она задумчиво поглядела в темноту и, помолчав, спросила: — Феликс, скажите, разве плохо вам в прекрасном земном мире? Вас любит Вера. Так чего же вам еще?
Он молчал, ощущая на губах вкус вялых хризантем.
— Жалко мне вас, но глупы вы беспредельно.
Он боялся шевельнуться и остановить ее, но более всего боялся коснуться ее. Он лишь изредка позволял себе брать бутылку из ее рук и тихо отхлебывал головокружительно пахнущий мед.
— Почему вы не придете к Вере? Ведь вы ее любите, любите по-настоящему, не так, как меня или эту рекламно-пепсиколовую красавицу Натали.
— Не могу! — вскрикнул Феликс и испугался своего голоса.
— Принципиальны люди слабые. — Она помолчала, глядя в темноту, и тихо добавила: — Вам не откроется лес, и ответа не будет, потому что и вопроса-то у вас нет. Вы упиваетесь страданием, призываете его, и оно приходит. А когда распахивается вход в иной мир, к Вере, живой и ждущей, вы опускаете веки, вы погружаете себя во мрак. Вы среди воров, хоть и не вор. Впрочем, с фабрикой будет покончено, они приедут.
— Кто они? — насторожился Феликс. — Что вы говорите?
— Они, — повторила Ада Юрьевна, — но это неважно. А вот раньше, в том пахнущем нефтью городе, вы мне нравились, нравилось ваше отношение к Фатеичу и трем бандитам. Вы были решительны, добры и красивы.
Феликсу почудилась та ночь, тот город, качающий нефть, Седой, Киргиз и Прихлебала. Ада продолжала:
— Больше мы не увидимся, я ухожу навсегда, и не беспокойте своих ушедших. Живите, вы остаетесь один, а я мертва, меня нет.
Ее голову облепили свалявшиеся волосы, а вместо глаз зияли черные провалины. Он тронул ее рукой, и рука вошла в пустоту и повисла над креслом. Феликс пожелал отхлебнуть, но бутылка была пуста, да и был в ней вовсе не мед, а дешевый портвейн. И не было на капоте шляпы грибом, да и никого не было рядом. Он был один в пустой и холодной машине. Восторженность сменил парализующий ужас. Феликс с вопиющей ясностью осознал, что нет Ады. Он один в темном лесу. Один и в бетонном городе, среди чужих людей.
— Кто я?! — вскричал Феликс и мгновенно, как при вспышке молнии, осознал — никто. Он понял, что никогда не увидит Аду Юрьевну, но ни о чем не жалел, ибо знал, что со всей данной человеку силой любит Веру, но никогда к ней не придет.
Обхватив руль, он долго глядел в темноту, ощутив, что в этом мире ему делать больше нечего. Затем включил мотор, зажег фары. Свет лег на заснеженные обводы холмов, на кусты терновника под белой снежной шубой. Он вывел машину на дорогу и покатил вниз по заснеженному шоссе.