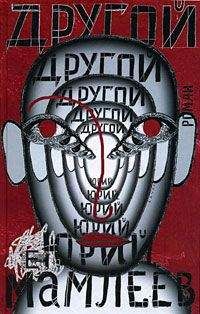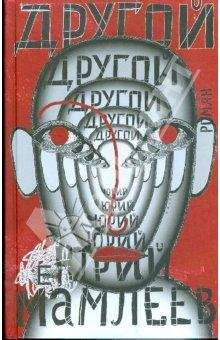Юрий Мамлеев - О чудесном (сборник)
— How are you?
— How are you?
— How are you?*
И не было кругом никакой порнографии. Раз только, между прочим, на улице огромно-толстый человек отозвал его за угол и вдруг обнажил свой член, закутанный в долларовую банкноту.
П. стащил доллар.
Больше таких историй не было.
— How are you?
— How are you?
— How are you?
— Is it nice weather?**
Возвращался П. с вечеров как бы вознесенный. Это было потому, что его существо еще более уходило от него.
И от этого ему становилось легче.
Какой-то тип записал на магнитофоне разговоры на одном из вечеров и советовал П. варьировать это на следующих вечерах — среди интеллектуалов. Но оказывается, интеллектуалов нельзя было смешивать с профессорами: последние походили скорее на бизнесменов. Интеллектуалы же походили на фрейдистов. Ничего этого П. не понимал.
Возвращался он с вечеров (интеллектуалы принимали его за призрак, сошедший с киноэкранов), полуобъятый нью-йоркским воздухом, чувствуя себя богатым, хотя даже на еду не хватало денег… Он ничего себе не позволял. Один только раз механически помочился на неуклюжего человека, который лежал у метро, повернув свое брюхо к звездному небу. Человек чувствовал себя свободным — разумеется, от жизни (и от этой, и от вечной). Помочился он на него, не ощущая ничего. А потом поклонился небоскребам…
И наконец, спустя много дней после всех своих историй, он увидел Лицо. Это случилось в день его рождения. Он включил TV. П. любил включать телевизор, ибо это заменяло ему мудрость. Мелькали там педики, сенаторы, знаменитости, проститутки, пасторы и наемные интеллектуалы. Но это не так взволновало П. на сей раз.
Главное, что он увидел Лицо. Это был человек, то возникающий на экране, то исчезающий в нем.
Одним словом, это была полузнаменитость.
Но дело не в этом. Дело заключалось в Лице.
В конце концов, такие лица он видел много раз на экранах, на рекламах, на улицах…
Но в этом Лице все было более чудовищно выражено. П. поразился: оно отражало то, что ниже Смерти. Это и ошеломило П. больше всего. Он всегда думал, смерть и ад — самое худшее, что нам предстоит. Он увидел нечто столь ординарное — в самой экстремальной степени, — что никакой распад, никакие страдания, никакой ад не мог коснуться обладателя такого Лица. Это было ниже ада, ниже дезинтеграции, ниже смерти!
И следовательно, хуже всего. П. раскрыл тогда рот — в тот момент, когда обнаружил перед своим сознанием тайну выражения этого Лица.
Лицо между тем упивалось своей значительностью.
«Не умрет он теперь никогда, — подумал П. — Так и останется навечно на экране счастливый, знаменитый и всемогущий».
П. любил этих «всемогущих», особенно их тень.
Лицо долго не давало ему покоя. Оно снилось ему по ночам — во всей своей широте и многозначительности. Иногда подмигивало ему — мол, будь как я.
И тогда П. сдался. Он стал как тот, который ниже Смерти. Проснувшись однажды днем, глянул на себя в зеркало и увидел, что родное его, почти детское где-то личико неотличимо по своей сущности и выражению от Того Лица.
Он сам стал этим Лицом, точнее, Анти-Лицом. И с этого момента начались для него счастливые дни. Он вдруг получил работу (что совсем уже походило на чудо). Более того, через семь лет оказался Наемной Знаменитостью. Получил мировое признание, телевизоровался, поучал, разъезжал.
Но его Анти-Лицо поразило некоего П.П.
И этот П.П. перенял облик П. — во всей его невыразимой ординарности.
И через десять лет тоже вырос в Наемную Знаменитость, телевизоровался, поучал, разъезжал…
П. уже давно пребывал в регионе, нижнем по отношению к аду, а П.П. по-прежнему разъезжал, телевизоровался, объяснял, просвещал и учил.
Оно
Оно было большое, странное и мало походившее на человека. Да и человеческого жилья не было: всего лишь грязная клетка в «гостинице» для бедных в Нью-Йорке. Оно целыми днями хохотало, глядя на свое отражение. По существу, отражения не было, точнее, было пятно, походившее на него.
Кто он был? Оно называло себя «он», потому что у него был член, один-единственный, но до того опустошенный, что он считал его волосиком.
Итак, он не знал, кто он. Может, когда-то он был очень уверенным человеком, но уже несколько лет как он потерял всякое самоуправление.
С кем он совокуплялся? Определенно с тараканом. Тараканов в его конуре было много, даже избыточно, учитывая и самую пылкую любовь, но тот таракан был единственный. (Вообще, нашего героя не тянуло к изменам.) Таракан этот, кроме того, заменял ему домашнюю кошку. «Единственный» падал с потолка прямо на член, несмотря на то что член был как волосик. Не член, а именно таракан «делал» любовь…
— How are you? How are you?
— Ты меня любишь? — спрашивал он иногда своего таракана, когда тот ползал по его животу.
Нет, «оно» не был эмигрантом. Точнее, он стал эмигрантом, но с другой, более духовной стороны. И где-то он оставался местным жителем и, следовательно, оптимистом.
Он, например, всегда говорил «how are you» таракану, когда тот заползал на его член. Потом, после совокупления, напоминавшего крепкую дружбу, «оно» подносило таракана к глазам и плакало (потому что с женщинами-человеками «оно» чувствовало себя еще более одиноко). Затем «оно» смотрело телевизор, подобранный на помойке.
В телевизоре мелькали белозубые божества. Их атрибутами были доллары. Потом стреляли, убивали и читали проповеди.
«Оно» пугалось. И в ответ опять хотело совокупляться с, тараканом. Но «единственный» не всегда оказывался под рукой. Тогда «оно» выдумывало таракана…
Иногда «оно» ходило гулять. Особенно вечером, когда нью-йоркские полицейские, обвешанные пистолетами, автоматами и рацией, скрывались во тьму — под землю, искать убийц. Тогда он лез в помойное ведро, что находилось напротив отеля. Ведер было много, но он облюбовал только одно. Возможно, потому что в него испражнялась огромная черная негритянка, сошедшая с ума оттого, что увидела в витрине магазина большой бриллиант.
Запах ее дерьма обволакивал «оно», так что он почти засыпал, окунувшись головой в ведро. Этот запах, видимо, был лучше, чем запахи в нью-йоркском метро, и он убаюкивал его. Но больше всего он любил мечтать в таком положении.
Ему чудился, например, член Сатаны — холодный и невообразимый, как небоскреб, устремленный к луне. Он сам порой взбирался на лифте на край какого-нибудь небоскреба и тогда в ночных огнях видел тысячи таких живых чудищ… Между тем он любил Сатану. Любил также хохотать на небоскребе, склонив голову в ночь. Никогда ему не хотелось прыгнуть вниз, да и защитные решетки были внушительные. Зачем прыгать вниз, когда можно было прыгнуть вверх, высоко-высоко над этими супермаркетами, и летать этакой черной летучей мышью над городом…
Но однажды «оно» решило кончать со всеми этими грезами. Началась жуткая нью-йоркская ночь с воем из-под земли, с криком проституток из пустоты и с золотом в витринах. «Оно» выползло из своей конуры. Океан желтых огней в черном ореоле горел вокруг. «Оно» заплакало: не потому, что ему не нравилась эта цивилизация, а потому, что «оно» вдруг решило умереть. Не всякое существо, решив умереть, плачет. Иные умирают, как манекены.
«Оно» знало это, когда было бизнесменом: его приятели по делам именно так и умирали.
Иногда раньше у «оно» были маленькие позывы к смерти, главным образом после оргазма, особенно с проститутками. Но его, скорее, тошнило от этих дешевых проституток, на которых он порядочно тратился. Ерунда все это, пора было кончать по-настоящему. Главное, впереди не ожидалось денег, а какая же без денег свобода. И кроме того, он увидел, что у его помойного бака уже не появлялась та странная негритянка (ее потом видели мочившейся в метро). Около помойного бака стояла старая белая женщина, и она была еще страшнее негритянки, словно выплыла из ночного нью-йоркского метро двадцать первого века.
Старая белая женщина (волосы ее были окрашены в рыжий цвет — цвет золота) наклонилась над помойным баком, где уже не было светящегося дерьма негритянки, а лишь где-то в глубине копошились крысы.
Женщина пела в помойный бак какой-то гимн. «Оно» осторожно подошло к ее заднице:
— How are you?
Когда «оно» повторило это приветствие десятый раз, женщина подняла голову и посмотрела на него.
И тогда «оно» поняло: вот и все, сейчас пора кончать. Труба прогремела, хотя это был просто взгляд. Он не знал, какого цвета глаза этой женщины — синего, зеленого, черного или бледно-голубого? Разве дело в цвете и даже в выражении?
«Оно» завыло. Это был дикий, трупный вопль, не напоминающий, однако, обычный вой из-под нью-йоркской земли. На четвереньках «оно» поползло. Впереди был черный узкий проход — так называемая улица, зажатая небоскребами, и она была патологически длинная, эта улица, непрерываемая, так что виднелся далекий горизонт. И на горизонте этом зияло зловещее кроваво-красное зарево. Словно пылало сознание дьявола.