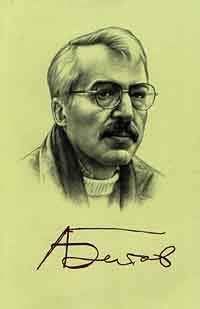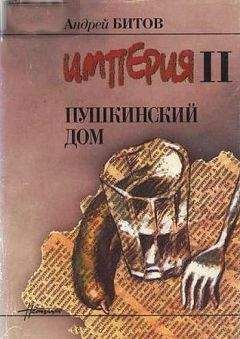Андрей Битов - Обоснованная ревность
— Понимаю, — я не то сказал, не то кивнул. Скорее кивнул.
— То, что вы понимаете, не важно, важно, что вы еще поймете, — сказал он несколько зловеще. — Сами рассудите… Мир был окончательно готов, когда в нем появился человек. Человек в нем ничего не создал. Он не сотворил пейзажа. То, что он сотворил, — он натворил, он испортил. Вы скажете, что телеграфные столбы, рельсы и аэропланы давно стали частью пейзажа… Именно что стали Зверь носит под кожей пулю — и ничего, живет, прихрамывая. Человек не сотворил пейзажа, но он не сотворил и пожарища. И пустыня и пепелище — опять творение не его рук, они лишь— на его месте. Не им посеян бурьян, не им навеяны барханы. Единство пейзажа, разрушенное им, лишь брешь для действия законов этого единства, не им основоположенных. Хирург режет, но кто затянет рану, свернет кровь, оставит рубец? Кто оставляет рубец на Творении Божьем? Вы скажете: человек — и будете тысячу раз не правы. Человек наносит рану, а рубец— от Бога. Человек!.. — взвыл он. — Единственное слово, которое ничего не значит!
— То есть как? А что же тогда…
— Есть что-нибудь в этом мире, что может назвать себя?
— Да нет… — промямлил я.
— Вот наше слово! Да нет… Чем не имя человеку? Зовет себя как-нибудь луна, сосна? Корова говорит: я корова? У них нет языка, скажете вы. А жизнь, бытие — разве не язык, разве не выражение? Нам дан язык слов, чтобы мы все назвали. Камень не скажет про себя, что он камень, а мы про него скажем. А кто же про нас скажет?.. Я — сказал Адам после грехопадения; ты — сказал Каин Авелю; он — сказал его потомок про другого потомка; он — это я, напомнил всем Христос… Ну где тут слово "человек"? Человек — это лишь местоимение: я, ты, он, они и, наконец, мы. А если он не местоимение, а человек, да еще с большой, этот венец творения, вершина эволюции, этот пуп земли, то он лишь фактор эрозии, коррозии, гниения, всяческого окисления… Стресс природы.
"А искусство?" — хотел было сказать я.
— А что искусство… — махнул он рукой. — И его не сотворил человек. Хотя это и единственно допустимая натяжка для называния его творцом или создателем хотя бы с маленькой буквы. И что оно доказывает? Что наивысшее создание рук человеческих почти не потребило материи. Что там потрачено-то на холст, краску, бумагу и чернила? На это природы хватит с избытком. На порождение еще одной природы…
Грозен был Павел Петрович и красив. Будто на горе стоял.
— И вы знаете — что? Знаете ли вы — что? Что на творчество никакого не требуется даже и времени? Человек его не знает, когда создает… Когда — любит… — Он вздохнул. — Перед смертью он обнаружит, что все остальное время он разрушал, то есть потреблял, то есть сам разрушался, вот и умер. Время! — взвыл он. — Кто ты? Может, ты — человек? Может, человек — это личинка такая, тля, моль пейзажа… личинка времени, куколка смерти?.. Как фараонов бинтовали? Не так ли, что они, как куколки лежат? Пирамиды — памятники смерти… все попытки обессмертить, вынести за скобки времени, окажутся памятниками смерти. Страх уже культ. Здесь все меня, видите ли, переживет, "все, даже ветхие скворешни…" Мы снисходительны к пейзажу, но лишь к такому, что смертен с нами, — вскорости и скворешня рассыплется. нас догоняя… Что нам не нравится так это черви… Черви, Господи, черви, Господи, черви… — забормотал он. — Начинается… — мрачно сказал он.
— Что — начинается?
— Время, его мать! Водка кончается — оно начинается. Они перетекают. Там нет зазора. Это одна вещь. Время тоже течет. Язык, он все скажет. Пора вскрыть этот могильник…
Беззвучно и сильно прорвалась сквозь тучу луна каким-то прокисшим ломтем. Взор Павла Петровича вспыхнул ей навстречу сходным светом. Он был столь неожиданно весь пьян, как мертв. Последним, героическим усилием вытряхнулся он из своей летаргии, судорога пробежала по всему телу, сочленяя разрозненные, расплавленные и сплывшиеся части.
— Пошли! — решительно сказал он и, словно под ним люк открылся, стал спускаться.
Крутые ступеньки, оказывается, перед ним были и вели в толщу стены. Вот уже одна голова осталась над, еще раз освещенная выдыхающейся луной; голова обернулась ко мне, общим контуром напоминая… черный мяч валялся, заброшенный, на верху стены, голова Крестителя все никак не скатывалась с блюда… голова звала за собой, и не было сил стронуться с места, не было сил не следовать за ним… В последний раз взглянул я окрест — одесную навечно спал монастырь, ошуюю дотлевал, объятый жизнью, город будущего, стекло и бетон, последняя головешка всемирного костра… Еще раз прыснула луна, и, угрожающе шевельнувшись, как ожившие мертвяки, пододвинулись монастырские строения… В последний раз повертел я оставшейся на воздухе головой и провалился в подземелье, сверкнула надо мной последняя звезда, словно это она упала…
— Осторожнее! — ласково прозвучал Павел Петрович. — Подайте руку… Да вот же рука! — Рука оказалась неожиданно живой, сильной и теплой. — Вот так. Сейчас придем.
Все уверенней двигались мы в этой катакомбе, что-то Даже жизнеутверждающее, оптимистическое объявилось в нашем продвижении, будто впереди мог оказаться свет…
— Ну что такого неприятного в черве? — напутствовал меня голос, снова звучавший уверенно и трезво. — Паук чем не хорош? А не нравится человеку, неэстетичным кажется, особенно некрасиво ему именно то, что его переживет. Переживет даже не личность, а самого человека переживет, сам вид его переживет… вот он и морщится от напоминания: бурьян, пустошь, тараканы, мухи… Они ему опять и опять: тебя не будет, тебя не будет!.. Тьфу, заладили…
Тут я наткнулся на Павла Петровича, потому что тот, в свою очередь, уперся. Это был тупик. И темно же было! Я поднес растопыренную ладонь к глазам — и не видел.
— Пришли! — даже голос его повеселел.
"Кончать он, что ли, меня будет?" — столь же весело подумал я и потрогал заодно свой бесполезный глаз. Самостоятельной жизнью дернулись под рукой реснички: я совсем не испугался, но нежность к своему замкнутому, самостоятельному существованию сладострастной волной пробежала по спине… Павел Петрович пнул в преграду, и она отозвалась радостно и гулко.
— Семе-е-ен! Семи-он! — кричал он, барабаня.
Это была дверь. Куда она могла вести еще?
— Се-е-час! — наконец недоброжелательно донеслось оттуда.
Мне послышался облегченный вздох Павла Петровича: слава богу…
— Кто там? — Голос мой прозвучал испуганно, что меня удивило и задело.
— О, это… — Павел Петрович переминался нетерпеливо. — Великий человек… Не нам чета… Мудрец!
— А кто он? — настаивал я.
— Семен-то?.. Да так. Отшельник.
— Ну!.. — Я балдел от происходящего. — Он Семен или Семион?
— Точно не знаю. Сейчас спросим. — И Павел Петрович заколотил по двери снова, и словно под ней все это время стояли… залязгал засов, брякнул крюк, визгнула жесть, острое лезвие света резануло из щели…
Ослепительная пятнадцатисвечовая лампочка освещала белую крысу на плече Семиона. Сам он был высокий, на грубых шарнирах мужик, длинное молчаливое его лицо выходило за рамку: то челюсть, то лоб; он был в измазанном фартуке и пах краской. Павел Петрович повлек его, молчаливого, вглубь под локоток, оставив меня озираться. Погреб был долог, тот его конец тонул в темноте. Посреди в два ряда были вмазаны в цемент огромные бочки, накрытые тяжкими крышками. Сложный и могучий дух кислоты и соленой сырости (будто тут умерло море) не вязался с запахом краски, оставшимся от Семиона. Они прошли еще в одну дверцу, откуда вспыхнул и впрямь яркий свет. Семион, ярко освещенный, взглянул через плечо на меня, будто проверяя что-то из нашептанного ему Павлом Петровичем, и они оба там скрылись.
Долго стоял я, про меня забыли. А может, бросили?.. Наконец я рискнул заглянуть… Они обернулись с подозрительно трезвыми лицами, как застигнутые. В руках у Павла Петровича была икона необыкновенно свежая и яркая, он ее как бы повертывал и так и этак; руки же у Семиона были заняты иначе: в правой — кисточка, в левой посверкивали пол-литра. На верстачке под сильной лампой в рабочем беспорядке толпились тюбики и бутылочки, и вся комнатка была величиной с бочку, которую мы всю и заполнили. На единственном стуле отдельно стояла еще одна икона, оказавшаяся тем же самым "Спасом", с которым мы выпивали. Как она сюда попала? Я не заметил, чтобы Павел Петрович что-нибудь нес в руках…
— Узнаете? — спросил он.
Я кивнул. Но оказалось, не про то он спросил.
— Кирилл и Мефодий, — сказал он, обращая ко мне свежую икону.
— Этот Кирилл? — растерянно указал я.
— Угадали, — усмехнулся Павел Петрович.
Я хотел было спросить Семиона, как так получилось, что и он реставратор, но Семион, прихватив два стакана, кивком позвал нас за собою.
Я уже не удивлялся, завороженный. Семион поставил бутылку и стаканы на бочку и, подналегши, сдвинул крышку с соседней; ниоткуда взялся в его руке ковшичек-черпачок, которым он из бочки и черпанул. Не что иное, как соленые огурцы, заплескались в ковшичке, как рыбки. Он выплеснул ковшичек на крышку; живописной кучкой насыпались они, лоснясь.