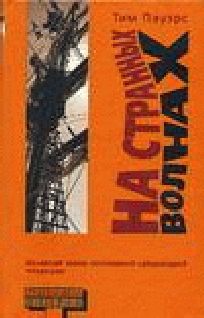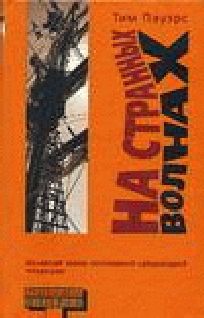Верхний ярус - Пауэрс Ричард
— Прости. У меня был сложный период.
Кармен смеется.
— Ты хочешь сказать, что бывают простые?
Мими упоминает о предложении.
— Я не знаю, Мими. Это семейное наследие. Что еще у нас осталось от папы?
«Три нефритовых дерева, — хочет сказать Мими. — Настойчиво машут ветвями».
— Я просто хочу поступить так, как поступил бы он.
— Тогда сделай со свитком именно то, что делал он. Это практически единственная вещь, с которой папа не расставался всю жизнь.
Затем Амелия. Амелия — крепкая, терпеливая святая, укрощающая диких, ликующих детей на заднем плане, не переставая слушать свою чокнутую сестру. Мими едва сдерживается, чтобы не сказать: «Я в бегах. Моя подруга мертва. Я сожгла частную собственность дотла». Вместо этого она читает переведенное стихотворение.
— Мило, Мими. Я думаю, это означает, что надо расслабиться. Расслабиться, любить и делать, что хочешь.
— Кармен говорит, это наша единственная семейная реликвия.
— Господи. Не надо быть такой сентиментальной. Папа был наименее сентиментальным человеком в целом мире.
— И осторожным с деньгами.
— Осторожным? Да он был скрягой! Помнишь подвал, полный барахла, купленного за гроши на распродажах? Ящики с колой, пуховики и торцевые ключи за полцены?
— Она говорит, он носил этот свиток с собой всю жизнь.
— Пф-ф-ф. Вероятно, ждал нужного момента на рынке антиквариата.
И вновь бремя самого важного в целом мире выбора ложится на плечи не шире детских. Той ночью инженер с неизменной улыбкой, хранитель походных записных книжек, нежный самоубийца, шепчет Мими. Он шепчет ответ прямо ей на ухо. «Прошлое — это Лотосовое древо, Сидрат аль-мунтаха. Обрежь его, и оно вырастет вновь».
ДОРОТИ КАЗАЛИ БРИНКМАН с чересчур сверкающей улыбкой несет из кухни в комнату мужа палисандровый поднос с протертым завтраком. С механической кровати на нее глядят так, словно беззвучно воют. Лицо с застывшей гримасой ужаса, с искривленным ртом, напоминает маску из греческой трагедии. Она борется с желанием попятиться через дверной проем.
— Доброе утро, РэйРэй. Как спалось?
Она ставит поднос на прикроватную тумбу. Ужасные глаза следят за каждым ее движением. «Похоронен. Заживо. Навсегда». Она заставляет себя продолжать. Ландыши в вазочке отправляются на столик у кровати. Дороти откидывает верхнюю часть покрывала, влажную от натекшей слюны. Затем устанавливает палисандровый поднос с горячим завтраком поверх полупарализованного тела.
Каждое утро она отрабатывает систему Станиславского и становится понемногу более убедительной. Ничто и никто в целом мире не подскажет, сколько еще таких дней впереди и как долго она продержится. Он издает какой-то звук. Она наклоняется, пока ухо не касается его губ. Все, что она может услышать: «Нннддо».
— Я знаю, Рэй. Все в порядке. Ты готов? — Она устраивает комическое шоу, засучивая рукава. Рот трагической маски слегка шевелится, и она истолковывает это так, как ей нужно. Рот в большей степени, чем паралич и искаженная речь, превращает его в нечто иное. — Это новый древний сорт зерна. Из Африки. Полезен для восстановления клеток.
Он приподнимает подвижную руку на дюйм, вероятно, чтобы остановить ее. Дороти игнорирует его; у нее это хорошо получается. Вскоре крупинки каши из древнего зерна стекают по его подбородку на слюнявчик. Она вытирает его мягкой тканью. Застывшее от инсульта лицо кажется жестким на ощупь. Но его глаза… его глаза говорят яснее ясного: «Ты — последнее, что у меня осталось сносного, не считая смерти».
Ложка входит и выходит. Какой-то атавистический импульс требует, чтобы она изобразила гул летящего самолета.
— Ты слышал сов прошлой ночью? Как они звали друга дружку?
Она вытирает ему рот и опять берется за ложку. Вспоминает момент на второй неделе, когда он еще был в больнице. Кислородная маска прилипла к его лицу. Игла капельницы впилась в руку. Он все время тянулся к ним действующей рукой. Ей пришлось вызвать медсестру, которая привязала эту руку бинтами. Он смотрел из-под маски с упреком: «Позволь мне покончить с этим. Разве ты не видишь, что я пытаюсь тебе помочь?»
В течение нескольких недель ее единственной мыслью было: «Я не справлюсь». Но человек привыкает к невозможному. Привычка помогла ей преодолеть прагматизм врачей и жалость друзей. Привычка помогает ей сдвинуть его окаменевший торс без рвотных позывов. Привычка учит разбирать его слова-айсберги. Еще немного потренироваться, и она привыкнет даже к тому, что мертва.
После завтрака она проверяет, не нуждается ли он в мытье. Нуждается. В первый раз, когда со всем справилась опытная медсестра в больнице, он стонал от позора. Даже сейчас из-за резиновых перчаток, губок, шланга и теплых комков, которые она уносит в ванную, на его горгульих глазах проступают слезы.
Она моет и переворачивает его на кровати, проверяет пролежни. Сегодня она совсем одна. Карлос и Реба, специалисты по мобильному уходу, приезжают всего четыре раза в неделю, в два раза чаще, чем хотелось бы Рэю, и в два раза реже, чем нужно Дороти. Она кладет руку на его каменное плечо. Нежность — вестник ее усталости.
— Включить телевизор? Или я тебе почитаю?
Ей кажется, что он говорит: «Читай». Она начинает с «Таймс». Но заголовки вынуждают его беспокоиться.
— Я тоже, Рэй. — Она откладывает газету в сторону. — Меньше знаешь — лучше спишь, да?
Он что-то говорит. Она наклоняется. «Крсрт».
— Крест? Не дуйся, Рэй. Это была глупая шутка. — Он повторяет то же самое. — Сердишься? Почему?
Ну, помимо миллиона причин.
Еще один слог срывается с его застывших губ: «…врд».
Дороти пугается. На протяжении всех лет, что они прожили вместе, это был его утренний ритуал. Ныне невозможный. Хуже того, сегодня суббота — день демонической головоломки. Единственный день, когда она слышала, как он ругается.
Они трудятся над кроссвордом все утро. Она читает определения слов, а Рэй смотрит в арктическую даль. «Возможно, задача ему не по зубам. Все равно что „Браунз Блю“ [62]. На расстоянии вытянутой руки». Через промежутки времени равнозначные геологическим эпохам он издает стоны, которые могут быть словами. К ее удивлению, это проще, чем посадить его перед телевизором. Она даже ловит себя на фантазии о том, что ежедневный кроссворд — просто выполнение определенного ритуала — мог бы помочь перестроить его мозг.
— Первый весенний знак зодиака. Четыре буквы. Первая «о».
Он издает два слога, которые она не может разобрать. Просит его повторить. Он рычит, а смысл по-прежнему превращается в оплывший шлак.
— Возможно. Запишу карандашом, потом вернемся к этому слову. — Все равно что вальсировать с тряпичной куклой. — Как насчет вот этого: утешительное перерождение почки. Шесть букв, первая «л», четвертая «т», пятая «в».
Он пристально смотрит на нее, замкнувшись в себе. Невозможно сказать, что осталось внутри этой запертой комнаты. Его голова опустилась, действующая рука скребет одеяло — так травоядный зверь разгребает снег на зимнем пастбище.
Утренние церемонии затягиваются почти до полудня. Она откладывает в сторону кроссворд, полный исправлений и сомнений. Пора подумать об обеде. Что-то такое, чем он не подавится, и что она не готовила ему уже несколько раз на этой неделе.
Пообедать — все равно что пересечь Атлантику на лодке с веслами. Во второй половине дня она читает ему вслух «Войну и мир». Кампания долгая и изнурительная, растянувшаяся на недели, но он, похоже, хочет продолжения. Она потратила столько лет, пытаясь привить ему интерес к художественной литературе. Теперь у нее есть слушатель, которому некуда деться.
Смысл повествования ускользает даже от нее. Слишком много людей испытывают слишком много чувств, за которыми невозможно уследить. Князь-герой погибает в эпицентре грандиозной битвы. Он лежит парализованный на холодной земле, а вокруг царит хаос. Над ним ничего, кроме неба, величественного неба. Он не в силах пошевелиться, может только смотреть вверх. Князь лежит и удивляется, как же его угораздило до сих пор упускать из виду главную истину бытия: весь мир и все людские души — ничто, суета под бесконечной синевой.