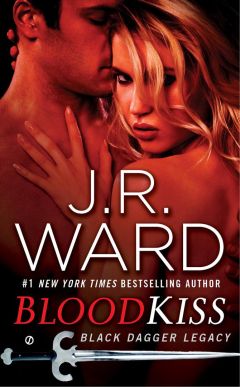Роберт Уоррен - Место, куда я вернусь
— Вот не знал, — сказал я. — Ну, давай дальше.
— Нет, я не страдал ограниченностью ума и продолжал плевать на убитых русских. С должными предосторожностями, как я уже сказал. Но однажды я чуть было не проявил ограниченности ума. Я обнаружил на пятачке, который мы только что снова отбили у немцев, одного русского пехотинца, которого проткнули штыком. Он лежал там на затоптанном, окровавленном снегу, и я плюнул прямо в его беззащитное лицо. И тут я увидел, что это лицо юноши — лет шестнадцати, может быть, семнадцати, не больше. И знаешь, что я сделал?
— Нет, — ответил я и налил ему для верности еще кальвадоса.
— Самую простую вещь на свете, — сказал Стефан. — Просто наклонился и вытер ему лицо. Такой роскоши, как носовой платок, у меня не было, так что пришлось воспользоваться грязной тряпкой. А потом я протер это место пригоршней чистого снега. Я чувствовал себя…
Он умолк, повертел в руках стаканчик, а потом стал крутить свои в высшей степени среднеевропейские, воинственные, образца 1890-х годов, черные усы, которые были, наверное, предметом его гордости в восемнадцать лет, когда он только что получил лейтенантские нашивки.
— Я чувствовал себя довольно глупо. Особенно после того, как у меня на глаза навернулись слезы. Но… — Он помолчал, а потом продолжал: — Но не огорчайся, друг мой, брат мой и отец нашего общего Эфрейма. Я вскоре снова стал придерживаться широких взглядов, которые проповедовал ваш мудрец Эмерсон, и с глубоким удовлетворением плевать на своих убитых товарищей по оружию, — впрочем, только когда это мне ничем не грозило. Ты не можешь понять, друг мой, почему я тебе об этом рассказываю?
— Не могу, — ответил я.
— Я тебе об этом рассказываю, — и тут он углубился в одну из своих мудреных синтаксических конструкций, в которых я всегда разбирался с трудом, — потому что, на мой взгляд, ты не предложил сыну поехать с тобой в Алабаму по той причине, что в глубине души знал: его присутствие там по этому поводу лишит тебя, твою глубинную сущность, чего-то трудно определимого, но при этом необходимого для твоей внутренней цельности. Лишит тебя твоего ощущения одиночества. Ведь мы договорились для простоты именно так называть нашу общую болезнь?
— Хорошее слово, зачем искать другое?
— Я когда-нибудь говорил тебе, — сказал он вместо ответа, наклонившись ко мне через стол и сверля меня глазами, которые, когда не сверкали юмором, или весельем, или мыслью, могли становиться жесткими, как булат, — как я в конце концов понял свое одиночество и смирился с ним? Я рассказывал тебе о своей жене?
— Кое-что говорил.
— Что можно вообще рассказать о жене? — резко произнес он и сделал глоток. — Так, мягкая мохнатая дырка в темноте… — Он поставил стаканчик на стол. — Я не просыпаюсь по ночам, пытаясь вспомнить, как выглядела моя жена. Я не пытаюсь представить себе, как она выглядела бы сейчас.
Он умолк.
— Дальше, — сказал я.
— Я заранее продумал, каким образом я от нее уйду. И посреди ночи я посмотрел на ее спящее лицо при свете свечи, которую держал в руке, и ушел. Знаешь, почему я не стал прощаться?
— Нет.
— Потому что я ей не доверял, — сказал он. — Это я знал точно. Но была и более глубокая причина: к тому времени я уже отдалился от нее. Но от чего отдалился? Никакой близости между нами и не было. Какие бы чувства мы друг к другу ни испытывали, я считал их всего лишь случайностью, вроде погоды. Она безусловно не обладала той поэзией плоти, о которой ты говорил, когда рассказывал про свою… как ее звали?
— Розелла, — сказал я. — Но должен добавить, что твоя племянница тоже была не лишена этого качества.
— Рад слышать, — спокойно заметил он.
— Но при всей поэтичности своей плоти она как будто всегда ожидала от меня некоей космической истины, которую я родить не мог.
— Жаль, что у нее настолько отсутствовало чувство реальности, — сочувственно сказал Стефан. — Но я продолжу свой рассказ. Я сказал себе, что все мы — случайные порождения истории, случайно пришедшие в соприкосновение. Все дело в том, как посмотреть. Так что я пальцами погасил свечу, поставил подсвечник на столик около кровати и заботливо положил рядом спички.
Он посмотрел на большой и указательный пальцы своей правой руки, словно ожидал увидеть на них черные следы копоти или ожога. Потом, взглянув на меня, произнес:
— Странно.
— Что странно?
— Я был уже на улице, в темноте, — сказал он, — когда сообразил — или просто вообразил, ведь наши мысли так сложны и запутанны, — что лицо моей спящей жены в тусклом свете свечи напомнило мне лицо того юноши, проткнутого штыком, на которое я когда-то плюнул и которое потом, в минуту слабости, вытер. Эта мысль на мгновение причинила мне странную боль, но я отогнал ее. В конце концов, лицо русского юноши-крестьянина, пока оно еще не заматерело, часто бывает очень похоже на лицо молодой женщины. — Он задумался. — Она — моя жена — была тогда беременна. Правда, в то время я об этом не знал. Если в то время вообще можно было об этом знать. Ребенок — сын — появился на свет позже, и точная дата его рождения так и осталась мне неизвестной. Но когда я с опозданием узнал об этом из письма, я сказал себе, что государство позаботится о нем, как сочтет нужным. А что такое сын? Или дочь? Все дело в том, как посмотреть. Сколько звезд в бесконечности не имеют имени? Нужно ли нам знать имя каждого зернышка пыльцы, слетевшего с ветки тополя? Я знал только одно: зернышко пыльцы, известное под именем Стефана Мостовского, движется по своему пути и рано или поздно обретет свое царствие небесное в этой стране, где все живут в одиночестве, хотя оно, это одиночество, может быть разного калибра и свойства. Ведь американцы, как вы всегда говорите, очень общительны, верно? Вы общительны, потому что не можете вынести своего одиночества. Вы… Мы, американцы, создали религию из абстракции. И разве не полна каждая ваша ночь слов и картин, убеждающих вас в собственной реальности? И в этой стране я окружен почетом и уважением за то, что занимаюсь своей специальностью, которая возводит безымянное одиночество до уровня математической ясности.
— Ты же любишь Эфрейма! — сказал я с внезапной злостью.
— Как свою собственную жизнь. Разве я не сидел в кресле сандека и не видел, как сверкнуло лезвие? — Протянув руку через стол, он схватил меня за запястье и сказал: — И тебя я люблю, друг мой. Наши души понимают друг друга, потому что мы знаем, что любовь — это поэзия плоти, а язык поэзии — единственный достойный язык. Язык поэзии и еще — прекрасный язык математики, который позволяет определить то, что никак иначе определить нельзя.
Когда умирает кто-то из твоих родителей — я хочу сказать, последний из твоих родителей, потому что могу говорить только о себе, а смерть моего отца случилась раньше, чем я достиг сознательного возраста, — то начинаешь считать умерших, даже по некрологам в «Нью-Йорк таймс». Пока хоть один из твоих родителей жив, ты все еще ребенок, каким-то таинственным образом защищенный им, как зонтиком, от дождя судьбы. Но когда зонтик закрыт и отложен в сторону, все становится другим — ты следишь за погодой иными, умудренными жизнью глазами, твои кости ноют, когда меняется ветер, у всякой радости появляется привкус иронии (даже у той радости, которую приносит любовь к ребенку, потому что сам чувствуешь себя таким зонтиком, или, если хотите, громоотводом, прекрасно понимая ненадежность подобных приспособлений). Больше того, после смерти родителей начинаешь видеть в любой смерти окончание некоей истории и испытываешь беглое побуждение подвести этой истории словесный итог — для самого себя или для кого-нибудь из общих знакомых: «Бедный Джон, — начинаешь ты, — вот ведь как странно все обернулось…»
И вот однажды мой взгляд упал на извещение о смерти Дэвида Мак-Инниса, у меня перед глазами на мгновение появились два лица, тесно прижавшиеся друг к другу в дверях гостиничного номера, и защемило сердце при мысли о том, что они так поздно, уже на самом закате жизни, обрели свое счастье.
— Да нет же, нет, — сказала мне миссис Мак-Иннис несколько месяцев спустя за ужином в ее номере-люксе. — Все было не совсем так. Жизнь доставила Дэвиду немало радостей. Он, можно сказать, упрямо наслаждался сознанием своей правильности, ведь он был так старомоден — в точности как вы, Джед. Он воевал на справедливой войне, еще в семнадцатом и восемнадцатом, и гордился тем, что воевал хорошо. И еще на его долю выпало несколько счастливых лет с его первой женой, матерью Марии.
Этот разговор происходил через два месяца после смерти Дэвида, в начале ноября. Она опять приехала в Чикаго по делам и пригласила меня на ужин, а я привел с собой Эфрейма — ненадолго, только на коктейль, чтобы похвастаться им, и с огромным успехом.