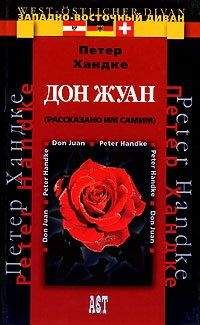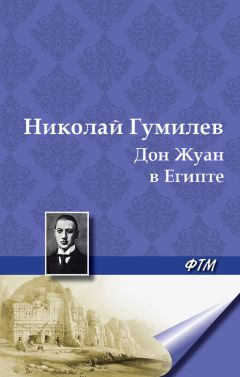Айрис Мёрдок - Святая и греховная машина любви
Скажу лишь, что тебе не придется обо мне сильно скучать. Мир, в который ты собираешься сейчас окунуться, полон людей, и ты увидишь (если сумеешь, наконец, преодолеть свою юношескую влюбленность), что многие из них куда интереснее меня. Я знаю, например, что ты не без удовольствия помогаешь Дейвиду. (И я бы делал это с удовольствием, но есть одно „но“. Ты, скорее всего, принесешь ему немного вреда, я же мог бы навредить сильно.) Оксфорд (говорю это без цинизма) полон таких Дейвидов. Словом, если я начну тебя уверять, что очень за тебя беспокоюсь, это будет чистым лицемерием с моей стороны. В каком-то смысле тебе приходится сейчас расплачиваться за то, что ты оказался слишком для меня полезен, — вроде тех русских гвардейцев, которые проводили одну ночь с Екатериной Великой, а на другой день их тела уже плыли по Неве. (Если тебе удастся умерить свое горе от разлуки со мной, этот образ, надеюсь, немного тебя позабавит.) Да, милый Эдгар, боюсь, что это и есть твоя Нева. Я не хочу больше тебя видеть — так что, прошу, не пытайся меня разыскать, даже если тебе очень этого захочется. Все твои попытки не вызовут во мне ничего, кроме отвращения, о котором смотри выше. К этому не премину добавить следующее (воистину неизмерима людская неблагодарность): мне в равной степени неприятно как то, что ты стал свидетелем моей слабости, так и то, что ты фактически помог мне с ней справиться. Так что держись от меня подальше, не дожидайся, пока тебя отшвырнут пинком, как приставучую собачонку. Пусть у нашей с тобой случайной встречи будет хотя бы мало-мальски сносный конец. Ты мечтал сослужить мне службу — ты ее сослужил. Тем и довольствуйся.
Я собираюсь несколько месяцев погостить у своего приятеля в Италии, после чего продам Локеттс и буду жить далеко отсюда (еще дальше от Оксфорда) наедине с тем человеком, в которого к тому времени превращусь я сам. Не думаю, что мои познания в области искусства или духа каким-то образом улучшат меня или исцелят (тем более, что я всегда имел склонность заблуждаться по поводу достигнутого мною уровня.) Не думаю также, что когда-нибудь мне откроются новые неиссякаемые источники писательского вдохновения. Возможно, я даже произведу на свет еще одного Мило. С моей стороны, как ты понимаешь, это будет равносильно признанию окончательного поражения. Правда, в иные времена всем нам, быть может, не мешало бы приветствовать свое поражение, встречая его у дверей, как дорогого гостя. Факт этот не вызывает во мне ни безысходного отчаяния (оно осталось в прошлом), ни унылого смирения (которое не стану разыгрывать из уважения к тебе); засим принимаю его спокойно. Всем — включая и меня самого — в сущности, глубоко плевать на то, что я буду писать и буду ли писать вообще. Почти все мысли человека о самом себе суть пустое тщеславие. И это письмо тоже тщеславие, попытка придать видимость значения тому, что ровным счетом никакого значения не имеет. (Чего стоит один пассаж, посвященный потенциальным пыткам моей дружбы — чистое тщеславие!) Точно так же неважно, нарочно или не нарочно я вводил тебя в заблуждение (если только мне это удалось) до самого последнего момента. Можешь думать как тебе заблагорассудится; это тоже не имеет значения. Пишу тебе обо всем этом с известным удовольствием — свидетельствующим, по всей вероятности, о моей душевной привязанности к тебе. (Впрочем, не уверен: с неменьшим удовольствием я представляю твое смятение.) Итак, я благодарю тебя и от души (насколько это возможно в моем случае) желаю тебе всего хорошего. Знаю, что любая мелочь для тебя имеет значение. Меня это всегда раздражало, казалось проявлением морального обжорства. Сейчас я отправляюсь туда, где с этим гораздо проще и где ничто не важно; к черту, вероятно, но и это тоже неважно, поскольку чертом непременно окажусь я сам. (Как видишь, опять тщеславие.) Кажется, все. Пожалуйста, когда будешь уходить, захлопни дверь. Ключ оставь на столе. Остальные двери и окна я закрыл. Кстати, мне все-таки встретилось несколько твоих писем к Софи. Можешь их взять — на письменном столе в моем кабинете. Они трогательны до нелепости, я искренне забавлялся, когда их читал.
Прощай. М.»Закончив, Эдгар тяжело опустился на пурпурный диван и разжал пальцы. Исписанные листки выпали из его рук. Последний привет от «рокового юноши». За окном колыхались ветки глицинии, в доме стояла удушливая тишина. Эдгар молча впитывал в себя эти знаки жестокого одиночества. Монти передумал. Так. А чего еще было ждать? Что они с Монти будут мирно стариться в Мокингеме? Неужто сердце ни разу не дрогнуло от такой миражной зыбкости? Одно дело веровать в собственную любовь, но полагаться на Монти, в чем бы то ни было, — не глупость ли? Монти не изменил себе, он защищался до конца; он не оставил Эдгару ничего, ни крупицы надежды. Да, каждая мелочь имеет значение, думал Эдгар, огромное значение, и он потом будет безжалостно мучить себя, снова и снова перебирая все эти мелочи в памяти. Он подошел к столу и налил себе виски.
Будущее вдруг съежилось, стало смехотворно маленьким. Эдгар вглядывался в него, искал хоть проблеск утешения — и не находил. Монти завладел всем, что было дорого Эдгару, и все забрал с собой. Сердцу незачем больше трепетать и волноваться. Конечно, он будет помогать Дейвиду, но лишь потому, что видит в этом свой долг, больше ни почему. Тот ореол, которым окружен был раньше Дейвид, оказался всего-навсего отраженным от Монти светом. Весь свет мира оказался отраженным от Монти. Когда в тот вечер в сердце Эдгара вспыхнула безумная надежда, весь остальной мир померк. Померкла даже Харриет. Эдгар вдруг ясно вспомнил лицо Харриет в тот момент, когда она сказала ему, что согласна ехать в Мокингем, — и как оно изменилось, когда он ей отказал; это скорбное изменение он почему-то видел сейчас будто впервые. В тот момент ему мыслилось, что он просто обязан сказать ей «нет», что это совершенно естественно и неизбежно. А скажи он «да», увези он Харриет в Мокингем, она была бы сейчас жива. Я променял жизнь на призрак, подумал он; но что я мог поделать, Монти держал меня мертвой хваткой. О призрак, безжалостный и ненасытный!
Эдгар подобрал с пола рассыпанные листки и начал было снова читать, но вдруг сорвался с места и побежал в кабинет Монти. Здесь ощущалось какое-то движение, в первый момент Эдгару даже показалось, что в комнате кто-то есть. Огонь, понял он; в камине догорал огонь. На столе лежала тоненькая пачка перевязанных бечевкой писем — жалкие крохи от того множества, что он успел написать ей за много лет. Эдгар развязал бечевку. Конверты уже пожелтели. Миссис Монтегью Смолл. Мадемуазель Софи Арто. Девичья фамилия Софи звучала теперь странно и неприкаянно — как колокольчик, колеблемый сквозняком, посреди давно опустевшего дома. Вспомнились вдруг очень ясно совсем иные, далекие дни, когда он, неизменно один из многих, таскался за Софи по всей Европе, — минорные, наполненные болью, но все же золотые дни юности. Раз она заставила его нырять в озеро за своей туфелькой. В другой раз, у другого озера (что это было за озеро — Комо? Маджоре?) он расстегнул ее платье (самый дерзкий из его поступков) и положил руку ей на грудь. Тогда он почувствовал, как бьется ее сердце, и оказался вдруг с ней, минуя все барьеры, и увидел ее лицо — беззащитное, не прикрытое ни маской насмешки, ни даже маской ее восхитительной неподражаемости. Он с ума сходил от любви — а она была озорная и легкомысленная, как дитя, капризная и коварная, как злонравный дух — Ариэль? Пак? Но теперь все превратилось в прах. Вспомнился злой хриплый голос, записанный на пленку. И все же — он чувствовал это сейчас, держа в руке ее письма, — какая-то часть ее души, сохранившая бессмертный шарм юности, продолжала жить и трепетать внутри него. Из-за Монти он так и не научился думать о Софи спокойно, и она никогда — ни при жизни, ни после — не обрела покой в его сердце. Эдгар уже собрался перечитать одно из собственных писем к мадемуазель Арто, но в этот момент на его руку с конвертом упала чья-то тень. Он вздрогнул и обернулся. За окном кабинета стояла девушка.
На миг ему показалось, что перед ним призрак. Впрочем, нет, не призрак, понял он, — и тут же ощутил груз собственных лет. Просто незнакомая девушка; школьница, скорее всего. Высокая, смуглая, длинноволосая, с темными, очень большими глазами. На ней был голубой свитерок, легкий и просторный, доходивший почти до подола короткой юбки. Растрепанные волосы (она явно спешила) разметались поверх свитерка причудливыми петлями, как чешуя или кольчуга. Девушка забарабанила по стеклу, всматриваясь в комнату тревожным взглядом беглянки. Видно было, что она сильно запыхалась.
Эдгар сунул письма в карман и шагнул к окну. Не успел он поднять раму, как девушка, не дожидаясь приглашения, перекинула через подоконник смуглую длинную голую ногу, ухватилась, в качестве опоры, за эдгарово плечо и в следующую секунду оказалась в комнате вся целиком. В воздухе кабинета тотчас разлилось какое-то особенное животное тепло, будто в окно прямо из леса запрыгнул разгоряченный быстрым бегом зверь — стремительный, гибкий и прекрасный. Эдгару показалось, что рука девушки обожгла ему плечо; он попятился.