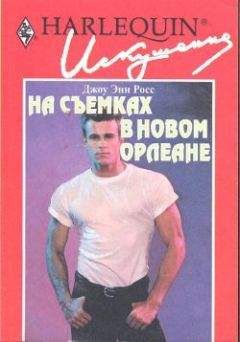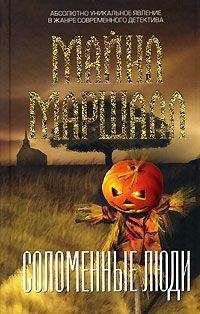Майкл Каннингем - Избранные дни
— Я не лечу, — сказал он.
— Что?
— Я не могу ее бросить.
Подумав секунду, Люк сказал:
— Ты же знаешь, мы для нее уже ничего сделать не можем.
— Я могу остаться с ней. Могу это для нее сделать.
— Понимаешь, что это значит? У нас не получится вернуться за тобой.
— Понимаю.
— Я хочу, чтобы ты полетел, — сказал Люк. Казалось, что еще немного — и он заплачет.
Ему ведь было всего двенадцать лет. Хотя это легко забывалось.
Саймон сказал:
— Ты сумеешь обходиться без меня.
— Знаю. Знаю, что сумею. И все равно хочу, чтобы ты летел с нами.
— Что там у тебя? — спросил Саймон.
Люк что-то принес в белом пластиковом пакете.
— Сейчас.
Он достал из пакета маленькую белую миску, купленную у старухи в Денвере.
— Ты берешь это на новую планету?
— Она принадлежала моей матери.
— Как это?
— Я не знаю, как она попала к Гайе. Из Денвера мы сматывались второпях, когда накрылся мамин мухлеж с кредитной карточкой, и Гайя, наверно, попала в нашу квартиру раньше, чем туда добрались власти. Я помню эту миску с самого детства. Мать, видать, где-то ее стянула. Купить она бы никогда ничего похожего не купила.
Люк держал миску обеими руками. Казалось, она едва заметно светится в сгущающемся мраке.
— На ней вроде что-то написано, — сказал Саймон.
— Да ерунда какая-то.
— Разве?
— Это язык какой-то несчастной страны. Одной из тех, где климат — кошмарен и каждый в длинной череде правителей страдает слабоумием. Одной из тех стран, которые, кажется, и существуют только для того, чтобы их жители могли всю свою жизнь стремиться вырваться оттуда к чертовой матери.
— Ты знаешь, как переводится надпись?
— Не-а. Понятия не имею.
— Но все равно берешь это с собой.
— Я за нее заплатил.
— Моими деньгами.
Люк пожал плечами и положил миску обратно в пакет. В наступившей тишине было слышно только дыхание Катарины, тихое, как шелест занавески, колышущейся под ветром.
Саймону представилось, что он видит эту миску на другой планете в следующем столетии, что она стоит на полке, молча отражая неземной свет. Этот маленький хрупкий предмет с непереводимыми письменами был главным сокровищем женщины, которая намеренно изуродовала своего ребенка, а потом бросила его. Миска отправится в путешествие к другому солнцу, не являясь ни редкостью, ни драгоценностью.
Странные они, эти биологические существа.
Люк спросил:
— Ты точно уверен, что не хочешь лететь?
— Я хочу. Но остаюсь.
— Что ж.
— Что ж.
Люк подошел к спящей Катарине.
— Прощай, — сказал он негромко.
Она не отвечала.
— Будь я лучше, я бы тоже остался.
— Глупости. Обоим оставаться совершенно незачем.
— Я знал, что ты так скажешь.
— Но все равно хотел это от меня услышать?
— Ага. Хотел.
— Это у христиан называется отпущением грехов?
— Угу. Отпустить грехи может всякий. Священник тут не обязателен.
— Ты ведь не веришь во весь этот вздор? Правда не веришь?
— Верю. Правда верю. И ничего не могу с собой поделать.
Люк торжественно застыл у кровати Катарины. Пакет с миской он держал у груди.
— Она прожила долгую жизнь. И теперь отправляется к Господу.
— Честно говоря, мне немножко не по себе, когда ты говоришь такие вещи, — сказал Саймон.
— А почему? Если не нравится «Господь», найди другое слово. Она отправляется домой. Возвращается к другим. Как угодно.
— Я так понимаю, у тебя есть четкое представление о жизни после смерти.
— Конечно. Нас снова поглощает земной и небесный механизм.
— И никакого рая?
— Это и есть рай.
— А как же царство славы? Прогулки в золотых сандалиях?
— Мы отторгаем сознание, как отторгаем, пробудившись, виденный во сне кошмар. Мы выкидываем его, как одежду, которая никогда не была нам впору. Восторг освобождения невозможно испытать, оставаясь в телесной оболочке. Оргазм — вот ближайшая аналогия, грубая и недостаточная.
— Этому тебя научили в Священном Огне?
— Нет, они идиоты. Просто я знаю. Как ты знаешь свои стихи.
— Если быть точным, я не знаю стихов. Я их ношу в себе.
— Вот именно… Эй, мне уже пора стартовать на другую планету.
— Я провожу тебя. Хочу попрощаться с остальными.
— Пошли.
Вместе они приблизились к кораблю. От него исходил приглушенный шум. Он испускал слабое сияние, напоминавшее то, как светилась в сумраке комнаты наверху миска Люковой матери. Колонисты собрались в подножье трапа. У его верхнего конца из квадратного входа изливался безупречно белый свет.
Эмори с чувством сказал Саймону:
— Ну что ж, нам пора.
— Я пришел попрощаться, — ответил Саймон.
— Ты не летишь?
Саймон начал объяснять почему. Эмори внимательно слушал и сказал, когда Саймон умолк.
— Знаешь, это совершенно исключительный случай.
— Что вы имеете в виду?
— Тебя.
— Я не исключительный. И не надо, пожалуйста, такого покровительственного тона.
— Ребенок сказал… — начал было Эмори.
— Сейчас лучше, по-моему, обойтись без стихов, — прервал его Саймон.
— Правда?
— Правда.
Эмори улыбнулся и кивнул:
— Ну, как скажешь.
От толпы отделилась Твайла, за ней — Люк. Девочка сказала Саймону:
— Раз уж остаешься, ты мог бы присмотреть за Гесперией.
— Почему бы нет.
— Завтра за ней придут соседи. Скажи, что ты им ее не отдашь. Скажи, что оставишь себе. Скажешь им это?
— Конечно.
— Он не сможет ухаживать за лошадью, — сказал Люк. — Лучше доверить ее соседям. Они же разводят лошадей.
— У них Гесперия станет просто еще одной лошадью в табуне. А у Саймона будет единственной.
— Надо еще, чтобы Саймон сам захотел держать лошадь. И хоть немножко представлял, что с ней будет делать.
— Пора на борт, — сказала Отея. На руках она держала младенца.
Эмори сказал Саймону:
— Я смотрю, ты у меня вышел лучше, чем я думал.
— Счастливого пути.
— И тебе тоже. Извини, мне нужно проверить, все ли на месте. Не исчезай пока. Я хочу как следует с тобой попрощаться.
Эмори смешался с толпой. Люк с Твайлой все препирались насчет лошади. Препирательство, судя по всему, заводило их в область иных, более общих разногласий.
Саймон подумал, что сейчас самое время удалиться. Как он ушел, не заметил никто.
Он снова занял свое место у кровати Катарины в темной, прохладной комнате. Снаружи доносился предстартовый шум: металлическое позвякивание, три звонких последовательных удара, затем странный чмокающий звук непонятого происхождения, вскоре прекратившийся. Еще то и дело раздавались голоса, детский выкрик, ответ взрослого. Слов было не разобрать. Они слышались как бы издалека, казалось, что до них дальше, чем на самом деле.