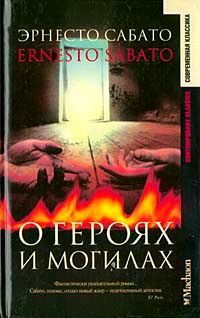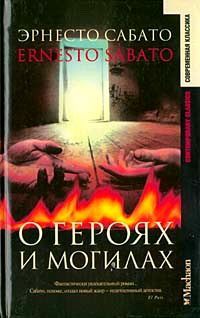Эрнесто Сабато - Аваддон-Губитель
Во время этого трудного подъема он сильно волновался, хотя волнение могло также иметь причиной это подозрение, от которого сжималось сердце. Он останавливался, но не садился, и не только потому, что тропа была болотистая, скользкая, но от страха перед гигантскими крысами, которые, чувствовал он, шныряли между ногами и по временам даже были ему видны в полутьме: мерзостные существа со злобными глазками, скрежещущие зубами и свирепые. Когда он почувствовал, что подъем близится к концу, уверенность в неминуемой катастрофе укрепилась — вместо того, чтобы все явственней слышать характерный гул Буэнос-Айреса, ему показалось, что все более глубокой становится тишина. Наконец он разглядел что-то похожее на вход в подвал дома. Так и было. Через отверстие в стене из полусгнивших от сырости и ветхости кирпичей он прошел в этот подвал, где сперва мог рассмотреть лишь кучи непонятных предметов, перемешанных с нанесенной дождями глиной, с осколками битого стекла, щепками и сорняками, тянувшимися вверх в жадном поиске света из щелей наверху. Он продирался сквозь эти рыхлые кучи, надеясь отыскать выход в нижний этаж здания, каково бы ни было это здание. Потолок подвала был выложен из камня и, наверно, поэтому не обрушился. Однако в нем образовалась большая трещина, сквозь которую проникал увиденный им свет, хотя и очень скудный, но освещавший это подземелье; свет, который, однако, навел его на мысль, что наверху, вероятно, не здание, как он предположил вначале, а пустырь с остатками какого-то сооружения. Щель обозначилась ясней, то была не трещина в каменной кладке, а — теперь он мог в этом убедиться — щель в старой деревянной двери, от ветхости распадавшейся на щепы. Он рассчитал, что дверь должна вести на лестницу, которой он, правда, еще не видел из-за нагромождения хлама и мусора. На одну из этих куч он попытался забраться, но когда под его ногами раскрошилось нечто не твердое, а комковатое и рыхлое, оттуда выскочила стая огромных крыс, некоторые в панике кинулись на него и по ногам и туловищу добрались до лица. С невыразимым омерзением и отчаянием он попытался их отшвырнуть, оторвать от себя. Но не мог этого сделать с той, что уже добралась до его лица: она пищала, он ощущал ее отвратительную шкуру у своих щек, и на миг глаза его встретились с красноватыми, порочными, искрящимися глазками этой юркой остервенелой твари. Не в силах сдержаться, он издал пронзительный вопль, сразу же заглушенный рвотой, — как будто он, полузадушенный, кричал, захлебываясь отвратной, вонючей жижей. Потому что рвота была не остатками пищи (он ел так давно, что и не помнил когда), а клейкой слизью, которая медленно стекала, как тошнотворная густая слюна.
Он инстинктивно попятился и оказался снова гораздо ниже, в том ровном отверстии, через которое проник в подвал или в то, что когда-то было подвалом. Крысы бросились врассыпную, и на какой-то миг он смог передохнуть, утереть рот рукавом сорочки, отбрасывая нечистые комки. Страх и отвращение парализовали его. Он чувствовал, что из всех углов этого вертепа за ним наблюдают десятки, а может и сотни крыс своими тысячелетними глазками. Неодолимое уныние снова охватило его, пронзило ощущение, что ему никогда уже не пробиться сквозь эту стену живой нечисти. Но еще ужаснее была перспектива оставаться в этом месте, где рано или поздно его сморит сон и он свалится в тину, станет добычей караулящих его крыс. Эта перспектива придала ему сил для последнего подъема. А также убежденность, что баррикада из грязи и крыс есть последнее препятствие, отделяющее его от света. В безумном порыве он сжал зубы и кинулся к выходу, бешено взбираясь на гору хлама, топча визжащих крыс, безудержно отмахиваясь, чтобы они снова на него не напали и не полезли по его телу, как прежде, и так ему удалось пробраться к деревянной прогнившей двери, которая сразу поддалась от его отчаянных пинков.
В городе царила глубокая тишина
Сабато шел в толпе людей, но они его не замечали, словно он был живым существом, а они призраки. Он пришел в отчаяние, начал кричать. Но все они шли своей дорогой, безмолвные, равнодушные, ни малейшим движением не обнаруживая, видят ли они его, слышат ли.
Потом он сел на поезд, отправлявшийся в Сантос-Лугарес.
От вокзала пошел по улице Бонифасини, и никто не взглянул на него, никто не поздоровался. Он вошел в свой дом, и тут его присутствие было замечено: Лолита глухо заворчала, ощетинилась. Гладис раздраженно велела ей замолчать, кажется, крикнула: ты что, рехнулась, не видишь, что нет никого. Он вошел в свой кабинет. За его письменным столом сидел Сабато, удрученно подперев голову обеими руками, как бы размышляя о какой-то беде.
Он подошел к нему, даже стал перед ним и увидел, что его глаза отрешенно и скорбно глядят в пустоту.
— Это я, — объяснил он.
Но Сабато и не пошевельнулся, сидел, по-прежнему сжав голову руками. Тогда он довольно нелепо поправился:
— Я — это ты.
Но и теперь не последовало ни малейшего знака, что тот, другой, слышит его или видит. Ни звука не издали его уста, не шевельнулись руки, не дрогнуло лицо.
Оба они были одиноки, отделены от мира. И более того, отделены друг от друга.
Тут он заметил, что из глаз сидящего Сабато капают слезы. И с изумлением почувствовал, что и по его щекам струятся холодные ниточки слез.
Они сотнями выходили из метро,
спотыкались, вылезали из набитых до отказа автобусов, входили в ад вокзала Ретиро, где снова набивались в поезда. Новый год, новая жизнь, думал Марсело с жалостливой иронией, глядя на этих отчаявшихся, ищущих милосердную надежду с праздничным кексом и сидром, с гудением сирен и радостными возгласами.
Сидя на скамье, он взглянул на часы на Башне — девять часов. И, конечно, вот она идет, молчаливая, но точная. «Вот подарок тебе», — сказала она, показывая пакет, обвязанный зеленой ленточкой, и улыбаясь этой дешевой шутке: переплетенный Сесар Вальехо. Сделал переплет один немец из магазина. Таких мастеров уже мало осталось. Почти серебряные ее волосы светились в сумерках. «Ульрике», — с трудом произнес он, коснувшись ее нежной руки, когда брал пакет. Оба сидели, как двое потерпевших кораблекрушение на островке посреди бурного океана, посреди непонятного, чуждого рокота грозы.
Потом пошли к порту. Там стоял многопалубный пароход, сияя множеством огней, готовясь дать гудок в полночь.
Верит ли он в новую жизнь? Она спросила об этом в своей отрывистой манере. «Я, знаешь, до десяти лет заикалась», — объясняла она всегда, с характерной для нее честностью признаваясь в своих недостатках.
Беседа этих двоих была столь же трудной, как восхождение на Аконкагуа для перенесших тяжелую болезнь. Они избегали каких-либо личных тем, предпочитали вместе учить заданные на факультете тексты, что заменяло им разговор. Однако иногда переводили вдвоем с немецкого — Рильке, Тракля. И это тоже было нелегко: как поправлять ошибки Марсело, чтобы его не обидеть, чтобы он почему-либо не счел это хвастовством? Но это же естественно, ты же дочь немца, бормотал он, желая ее оправдать. А эти «Lieder»![325] Лучше бы с музыкой, правда? Тогда будешь запоминать слова механически. Но он напевал, стыдясь, ошибаясь и в мелодии, и в немецком, чересчур часто делая это хуже, чем мог бы. «Gewahr mein Bruder, ein Bitt»[326]. Да нет же, Марсело, извини, здесь «Gewähr». Видишь, здесь «а» с двумя точками, мягко поправляла она. Их волновал Шуман, воспевший мужскую дружбу, умирающего гренадера, который просит товарища отвезти его труп на родину, чтобы там похоронили, чтобы он был недалеко, когда император снова призовет его, — песня о битвах, о печали и преданности солдата в чужом краю. В полутьме площади. И тут у него появилось искушение сказать ей, что она красивая, что так хороши ее светлые волосы на темной блузе. Но легко ли выговорить такую длинную и интимную фразу? Так что они шли молча, пока не приблизились к воде, чтобы лучше разглядеть пароход, — огни на палубе показывали, что там тоже есть люди, желающие быть счастливыми, ждущие новогодних гудков и волшебства этого часа, который будет рубежом в их жизни и оттеснит в прошлое и горести, и бедность, и разочарования целого года. Потом они вернулись обратно, сели на ту же скамью. Наконец, она сказала, что уже десять часов, а ей надо быть дома до одиннадцати.
Да, конечно, конечно.
А он пойдет к родителям?
Марсело взглянул на нее. К родителям? Вряд ли… Палито там один… и он…
Они встали, она была чуть выше его. И тут Ульрике погладила его по щеке и сказала: «Счастливого Нового года!» — с той мягкой иронией, с какой она обычно старалась затушевать сердечную нежность общими фразами, словно бы пряча ее среди объявлений и ярких плакатов. И затем в первый раз — а также в последний — она приблизила губы к губам Марсело, и оба почувствовали, что от этого легкого прикосновения всколыхнулось в их душе нечто очень глубокое. Он видел, как она идет к вокзалу в своей черной блузе и желтых брюках, и думал, — вряд ли она сознает свою красоту и гордится ею, красоту неведомого потаенного пейзажа, который не упомянут ни в одном туристском проспекте, не знал (и не узнает) льстивых и лицемерных восхвалений, оскверняющих его. Он направился по авениде Либертадор к дому родителей и, подойдя поближе, посмотрел на дом с противоположного тротуара. Да, на седьмом этаже в окнах горит свет. Они там, видно, готовятся и, возможно, надеются, что он придет, заглянет хотя бы на одну минуту. Он подумал, не будет ли с его стороны бессердечностью и гордыней, если он этого не сделает, если огорчит свою бестолковую, рассеянную мать. Он долго колебался, вспоминая ее кроссворды, растрепанные волосы, привычку путать слова. Беккер?[327] Что там случилось с Беккером? Почему столько шума? Ведь когда она была еще вот такой крошкой, то декламировала Беккера наизусть. Не Беккер, мама, а Беккет![328] — поправляла ее Беба с присущей ей интеллектуальной четкостью и точностью. Но это было все равно, что ударять по мешку с ватой: Беккер, Беккер! Тоже мне новость! — твердила мать, поглощенная разгадыванием кроссворда.