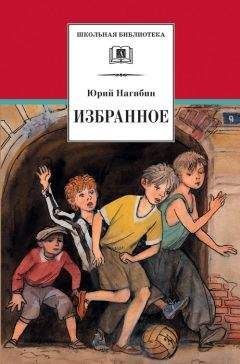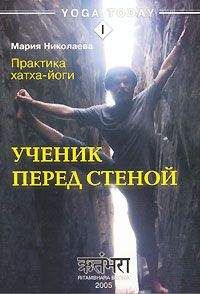Юрий Нагибин - О любви
Они старательно, истово спели до конца очень длинную — еще длиннее апухтинских стихов — песню, и Маруся сразу начала другую, и тут уже ей не подпевали:
Средь полей широких я, как лен, цвела.
Жизнь моя отрадная, как река, текла.
В хороводах и кружках — всюду милый мой
Не сводил с меня очей, любовался мной…
Климов вдруг разволновался, какие-то интонации Марусиного голоса задели его за живое. Черт возьми, оказывается, художественная литература бывает похожа на жизнь! «Casta Diva» Обломова, соната Вентейля, вернее, одна ее фраза, мучительно-сладко ранившая Свана!.. Мне нравилось читать об этом, но я не верил, что музыка может так пронзать человека, не верил, наверное, потому, что сам я недостаточно музыкален. Но сейчас со мной творится что-то странное, еще немного, и я разревусь. Этот переход во второй строке…
Все подружки с завистью все на нас глядят,
«Что за чудо-парочка!» — старики твердят…
Ах, Боже мой, мне счастливо, как никогда не бывало, и мне жалко всех, кого я потерял. Бедный отец… бедный Котик… и мама бедная, умерла совсем молодой… Мне хочется поцеловать Марусю. Поцеловать в голову, в щеку. Она милая, нежная и умная, если может так петь. А ведь она едва владеет аккомпанементом, да и петь-то не умеет, но она прекрасно поет, она поет сердцем, так, кажется, принято говорить…
Когда Маруся допела песню, он попросил:
— Можно еще раз?
И она сразу, нисколько не удивленная и не ломаясь приличия ради, запела:
Средь полей широких я, как лен, цвела…
Ему хотелось попросить ее спеть и в третий раз, но тут откуда-то возникла стриженная под мальчика, городского обличья пожилая женщина и вырвала у Маруси гитару.
— Дай, ну дай же! — твердила она, хотя Маруся без сопротивления отдала ей гитару.
— Садитесь, Вера Дмитриевна, — ласково сказала Маруся, уступая ей место.
Женщина села, в зубах у нее тлела самодельная замусоленная цигарка. Она подкрутила колки, выплюнула папиросу, ее худые скулы кирпично вспыхнули, и, тряхнув серыми волосами, она запела хрипло, но очень музыкально шансонетку нэповских времен. «Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам», — билось в уши и в сердце Климову. Иногда такие вот дурацкие песенки пела его мать, вспоминая свою молодость, но она пела их насмешливо, а эта женщина с серыми волосами и голодными скулами — мрачно и странно. «Без мужа жить — сплошной обман, а с мужем жить не стоит вам. Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам!..» Запавшие глаза ее сухо блестели, бледный рот кривился.
— Ленинградка, — наклонившись к Климову, шепотом сказала Маруся. — Вся семья у нее с голоду погибла.
Через некоторое время Климов спохватился: почему Маруся заговорила с ним, да еще так доверительно? Он ни о чем не спрашивал, даже не глядел в ее сторону.
Когда уже все расходились, ленинградская женщина подошла к Климову и спросила отрывисто, словно бы недовольно:
— Ленинградец?
— Нет, москвич.
— Врете! По лицу вижу, что ленинградец.
— Уверяю вас… — начал Климов и вдруг сообразил, что к чему. — Я, правда, с Ленинградского фронта…
— Ну вот, зачем же спорить? Я ленинградский штемпель сразу узнаю. Табачку, земляк, не найдется?
Табак у него был, сейчас он курил мало. Женщина взяла пачку «Кафли», понюхала тонкими беспокойными ноздрями.
— После войны сочтемся… — Она со странным кокетством поглядела на Климова. — «Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам»… Уехал, можешь себе представить, земляк, навсегда уехал!.. По делам… И ведь не заменишь, нет, никем не заменишь!.. — Серая голова странно задергалась.
— Уходите! — прикрикнула на него Маруся. — Чего уставились?
Она обняла женщину за плечи, что-то зашептала ей на ухо и повела к дверям. Та шла послушно, держа в опущенной руке, худой и старой не по возрасту, пачку «Кафли».
Климов стянул сапоги и прилег на кровать. В комнате было темно, лишь в неплотно прикрытую дверь проникал свет керосиновой лампы. Художник и Нюсенька куда-то отлучились. Климов был рад их отсутствию, ему хотелось разобраться в своих впечатлениях. Он прикрыл глаза. Кто-то тронул его за плечо.
— Спите или притворяетесь? — услышал он Марусин голос.
— Притворяюсь. — Ему казалось, что он слышит, как набатно-громко бьется в нем сердце.
— Вы не подумайте чего не надо, — заговорила Маруся. — Она очень хорошая женщина. Очень умная и интеллигентная.
— А что я мог подумать? — растерялся Климов.
— Да вот с табаком, — неохотно сказала Маруся, словно досадуя на его недогадливость. — Просто это привычка такая. Она для своих собирает. Забывает, что они погибли. А потом, как вспомнит, все назад раздает, только не знает, у кого что брала, и опять мучается. И не надо так на нее смотреть, будто она не в себе. Вы лучше поговорите с ней, увидите, какая она умная и начитанная. И на гитаре играть я от нее научилась. Она и на пианино играет!.. Вам принести лампу?
Климов отказался, и Маруся вышла.
«Ну что ты дрейфишь, идиот? — спросил он себя. — Хоть бы за руку взял, хоть бы сказал что-нибудь…»
И тут сразу пришел художник и стал поздравлять Климова с успехом.
— Марусенька выскочила отсюда в чрезвычайно приподнятом настроении. Молодец, пехота!
— Слушай, богомаз, — сказал Климов тем особым голосом, какого у него не было до войны. — С этой минуты ты о Марусе со мной не говоришь. Только если я сам начну. Понял?
Художник удивленно присвистнул.
— Мог бы то же самое по-другому сказать.
— Так вернее, — оборвал разговор Климов…
Этой ночью Климов спал тревожно, просыпался и, наконец совсем проснувшись, поднялся с постели. В непроглядной темноте согласно и трогательно дышали художник и Нюсенька. Климов попытался нашарить ногой сапоги, но не нашел их. Босой, держась за спинку кровати, он добрался до двери и распахнул ее в сонное тепло кухни. Кухня глядела окном в сторону фронта. Там вспыхивали медленными зелеными зарницами осветительные ракеты. И, отзываясь на далекий свет, в кухне посверкивала стеклянная утварь в простенькой горке, цинковое корыто на стене, никелированные шишечки на кровати, на которой спала хозяйка с младшей дочерью, и еще какие-то металлические, неугадываемые во тьме предметы. Ситцевая занавеска над печью хранила еще два дыхания — Марусино и Любашино. Семья спала глубоко, набираясь сил для нового дня: четыре женщины от пяти до пятидесяти, а хозяин, создавший эту семью, построивший этот большой дом, насытивший его вещами, был убит пришедшими из чужой страны неприятелями. Теперь второй, и последний, мужчина этой семьи, восемнадцатилетний Марусин брат, пытается помешать врагу убивать дальше, и его тоже скорее всего убьют или искалечат, у рядового пехоты мало шансов уцелеть…
Климов вышел на крыльцо и удивился холоду этой летней ночи. Холод полз над землей со стороны фронта, обтекая голые ноги Климова. Казалось, он зарождается в ядовитой зелени, растекающейся над передним краем. Климов закурил. Что-то мокрое, холодное, шерстяное прижалось к его ногам, заставив вздрогнуть, и завертелось в коленях, касаясь кожи чем-то влажно-горячим. Хозяйский пес, спущенный на ночь с цепи, признал нового постояльца. Климов нагнулся и погладил его по шишковатой, в репьях, голове…
Печаталась немецкая газета и листовки в типографии-поезде, стоявшем в лесу на специально проложенных туда рельсах. Этот поезд принадлежал к мощному хозяйству фронтовой газеты, а седьмоотдельцы числились в бедных родственниках. Однажды редактор попросил Климова отнести в типографию текст новой листовки и проследить за набором. Климов заглянул в текст, по обыкновению обещавший добровольно сдавшимся в плен немцам жирный суп, в буквальном переводе это звучало как «толстый суп» (dicke Suppe), вздохнул и пошел выполнять приказ.
Сразу за деревней начинался густой цветущий луг, простиравшийся до темного, глухой стеной стоявшего сосняка. Луг крепко пах ромашками, тропинка почти исчезала в рослых цветах и травах. Ромашки яичным желтком пачкали сапоги, темно-бордовые цветы — будто с десяток крошечных гвоздичек унизали тонкий клейкий стебель — оставляли на руках липкий след. Над лесом большая и, видать, старая ворона преследовала молодого соколка. Тот уходил от нее, изящно планируя, с перепадами высот, но злобная и настырная старуха, неуклюже и сильно взмахивая громадными крыльями, снова настигала его и норовила клюнуть в голову. Что он ей дался? Может, на добычу посягнул или охоте ее помешал? Соколок не решался принять бой, он только уклонялся, уходил и, казалось, в своей беспомощности и унижении старался сохранить непринужденность. А ворона вовсе не заботилась о таких тонкостях, ей только бы долбануть соколка железным носом в зрак, в золотой, блестящий кружочек. Ненависть тяжелой кровью прилила к голове Климова: эх, ружье бы сейчас! Всыпал бы черно-серой разбойнице по первое число! Почему злоба так упорна и последовательна? Может быть, потому, что она, злоба, — не вспышка, не приступ слепой ярости, не судорога бешенства, а нечто тягучее, как смола, и, как смола, клейкое — и хочешь, да не отлепишься. Вот и ворона не могла отлепиться от соколка. Он, как с горы, скользнул бочком влево, к высоковольтной линии, и ворона замахала крыльями и, будто спотыкаясь о незримые воздушные ухабы, пустилась за ним следом, и они скрылись за деревьями. Забьет или не забьет она соколка?..