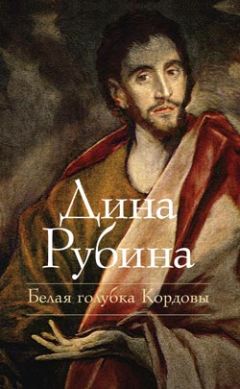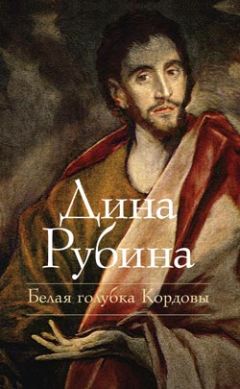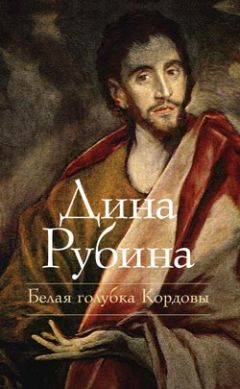Дина Рубина - Синдикат
— Сеня Бужерович… — говорит Маша, посылая тому воздушный поцелуй… — Приехал в Израиль лет тридцать назад, валялся на скамейках в парке — ночевал там, больше негде было. Потом — без паузы — стал адвокатом, не зная иврита, и не узнав его никогда. Он нашел нишу: права инвалидов войны. Посадил писать прошения старого еврея из Польши, и дело пошло… Довольно быстро на моих глазах разбогател. Когда встречал меня на улице, кричал: — «Люба моя! Зайди в контору!» Он был писаный красавец. Сейчас ему 75, он и сейчас интересный мужчина со слуховым аппаратом. Регулярно приезжает в Одессу, — ты видела эту гостиницу? Одна из самых дорогих… — много жертвует, ставит памятники. Привозит старых евреев-одесситов с Брайтона, из Филадельфии, из Балтимора…
…На Дерибасовской мальчик лет 17-ти, с фотоаппаратом и каким-то зверьком в руках, кричит нам:
— Молодые люди, обратите внимание! Секунда времени и память на всю жизнь!
Мы подходим. Это шиншилка, юркая, пепельно-серая, теплая…
Он мне:
— Вы знаете, сколько таких вам нужно на шубку?
И мы торжественно снимаемся с шиншилкой на фоне памятника Утесову.
Наутро водитель Жора, бывший судовой механик, заезжает за мною и — так Маша велела! — на прощание делает мне круг по Одессе. Со мной он говорит много, охотно и откровенно, — вероятно, чувствует во мне это нежелание начальствовать. Очень самостоятельные суждения. Своеобразная лексика. Говорит не «развалили Союз», а «разваляли». Мы совершаем круг по центру Одессы, по Молдаванке — темной и облезлой, мимо синагоги Бродского, некогда великолепной, а ныне тусклой и серой, — сейчас там городской архив… Наконец Жора привозит меня к какому-то скверу. Сюда, говорит торжественно, с соответствующим накатанным выражением лица, — в войну евреев сгоняли и отсюда увозили в разные гетто…
Интересно: когда подобные места мне показывают чужие и рассказывают о происходившем здесь, — возможно, действительно, сочувствуя, — я не ощущаю ничего, я — камень, скорлупа моллюска, скрывающая свое пульсирующее нутро.
(Так было в Лейпциге, где милая женщина, редактор моей книги на немецком, показывала мне памятник на месте сожженной синагоги: высокий подиум, на котором рядами стояли привинченные к бетону стулья, просто — пустые металлические стулья.
Я вежливо слушала, спокойно смотрела.
Вечером, оставшись одна в номере гостиницы, вспомнила ряды этих пустых стульев и вдруг расплакалась, — жалея, что не позволила себе сесть и посидеть на одном из них).
…Напоследок — ожидание вылета в VIP-зале, в котором сидим только я и еще одна пара: молодой человек, тот самый, что летел сюда со мною, так желал припасть к родной земле и так скоро, как выяснилось, вновь ее покидал, и юная с ним, длинноногая спутница.
Он кричал кому-то в мобильник: — ну, короче, нас тут обыскивают, и типа допрос снимают… Сейчас заломят-поведут… Все, короче, — целую в десны!!!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
глава двадцать шестая. «…и колеблются основы земли»
На элитарную телепередачу «Ультра-литература» Марина явилась веселая, раскованная, — как всегда. После долгой прогулки по летней зеленой Москве. Конечно же, опоздала, поэтому сразу ее усадили гримироваться. Зашел ведущий, Кирильцев, предупредил:
— Мы с тобой поговорим о Войновиче.
Не отрывая взгляда от зеркала, Марина сказала легко, через плечо:
— А я его не читала.
Повисла пауза, как пишут в подобных случаях. Все окоченели — редактора, гример, операторы и осветители…
— Как?! Вы не читали Войновича?
— А что там? — доброжелательно спросила Марина, — ну-ка, расскажите мне быстренько, — о чем там, кто там герой? Сделайте мне ресницы подлиннее…
— Ну… как же… Ты что, не читала «Чонкина»? — спросил великолепный Кирильцев.
— Нет, а что? Ну, давайте, расскажите мне по-быстрому, а я всегда готова поддержать разговор… Мы что, передачу о Войновиче делаем? Я могу. Там — когда происходит? Война? Какая? Про что? Да вы, друзья мои, сами ничего не знаете… Забыли уже… Сделайте мне тогда румянец во всю щеку!
— Ну, там он хохмит… — наконец выдавила помощник режиссера Ира.
— Ага, это что, — нечто среднее между «Василием Теркиным» и «Приключениями Швейка»?
— Да нет… — с досадой проговорил Кирильцев. — Девочки, принесите энциклопедию…
Пока Марине делали начес и пудрили нос, кто-то приволок энциклопедию, нервно, всей группой, искали нужную страницу, наконец открыли ее и прочли, что знаменитый роман Владимира Войновича «Чонкин» по литературному своему исполнению представляет нечто среднее между «Теркиным» и «Приключениями Швейка»…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я в это время сидела на террасе кафе, в скверике перед консерваторией, где мы договорились встретиться. Большая Никитская улица — плотная, неширокая, очень по-столичному насыщенная, кипела пешеходами, машинами, велосипедистами.
Я пила чай без сахара и разглядывала купол церкви наискосок напротив — звездчатый, как елочная игрушка… И думала о том, что торцы старых домов — желтые, осыпающиеся известкой и осколками красных кирпичей, — на всех этих Масловках, Мясницких, Пятницких, Ордынках, — разоблачают тайны квартир. Словно разрезали дом гигантским ножом, а на срезе — окна не вровень, а вразнобой, одно выше, другое ниже… как разбросанные по столу карты…
За соседним столиком сидела целая компания.
Женщина, по виду японка, обернулась и спросила у приблизившейся к ним девушки в длинном черном, явно концертном платье… — …Отыграла?!
Мне одного взгляда на нее, на этот багровый желвак слева на шее достаточно было, чтобы определить — на каком инструменте она «отыграла». Родимый знак скрипачей, родимое уродство цеха… Девушка была хрупкой, черноволосой, очень красивой, несколько сутулой. Облокотившись на перила террасы, она тихо и освобожденно улыбалась, положив щеку на сгиб локтя. Несколько минут что-то неразборчиво для меня они обсуждали, я не прислушивалась…
Странно, что и спустя двадцать пять лет после расставания с моим ремеслом, все это — всех этих людей, бурлящую и бубнящую музыку из окон, я до сих пор воспринимала как свою братву, своих людей, мой цех…
Наконец явилась Марина, и мир вокруг, — как обычно, — сразу удвоился, расцветился, раздался и одновременно — как под линзой — выпер, — мы стали спускаться вниз по улице, и сразу перед нами, за нами и вокруг нас закружились сумасшедшие старухи и бомжи, замелькали по правому и левому борту «кислотные», как говорят теперь, юнцы и юницы с оголтелыми физиономиями.