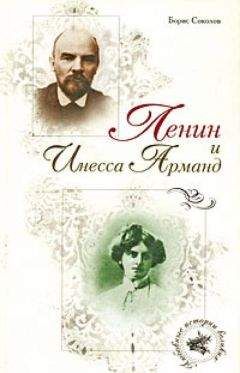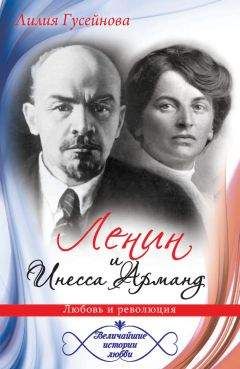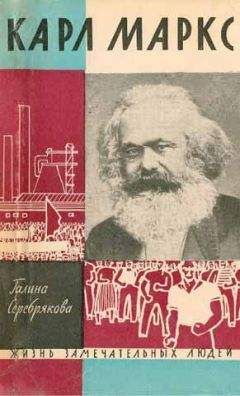Чезаре Дзаваттини - Слова через край
А в Риме от церкви Троица-на-Горе спускается блондинка, и толпящиеся внизу у знаменитой лестницы итальянцы и иностранные гости любуются ее ножками и ножками других женщин, целый лес идущих вниз по лестнице ножек, всех форм, в чулках, без чулок, в узорчатых чулках, в гольфах, колоннады ног, и в этих колоннадах бредут как зачарованные мужчины, словно дети, заблудившиеся в заколдованном лесу. Кто-то из них карабкается вверх по ноге, за ним лезут остальные. Но те, кому удается вскарабкаться раньше других, стукаются макушкой о верхнюю рамку кадра и падают вниз со здоровенной шишкой на голове. Идя вслед за одной из этих прелестных женщин, какой-то молодой парень столь мелодично скрипит новыми ботинками, что кажется, играет орган. Другой поправляет галстук. Третий приглаживает кудрявые волосы. Скрытое соперничество между охотниками за женщинами мало-помалу обостряется, и, в то время как кавалеры, следуя за девушками, внешне сохраняют бесстрастный вид, в воображении они прошивают друг друга автоматными очередями.
Но по улицам спешат другие, не менее очаровательные женщины; глаза у мужчин вылезают из орбит и, словно притянутые магнитом, отделяются от лица и прилипают к ножкам то одной, то другой прелестницы, а женщины стряхивают их легким взмахом руки. О, сколько красивых женщин; они всё множатся, и каждый хотел бы броситься за всеми сразу. В конце концов мужчины начинают распадаться на части: рука бросается за шатенкой, нога — за брюнеткой, а глаза — за блондинкой.
Вдруг небо наполняется птичьим щебетом. Какой-то человек, воздев руки, зовет птиц. Это не кто иной, как святой Франциск, мы узнаем его по маленькой бородке, монашеской рясе и кроткому — правда, кротость эта несколько притворная — выражению лица. Птицы; вышивая в небе сложные узоры, приближаются от далекого горизонта — сначала маленькие точки, потом целые стаи, кружащие в воздухе, — то серые, то черные, то прозрачные, как кисея, они летают вокруг святого, и некоторые садятся ему на голову и на простертые вверх руки. Вдруг человек, которого мы считаем святым Франциском, поворачивается, чтобы подать знак — он действительно кому-то подмигивает, — в тот же момент гремит выстрел, и несколько птичек падают. Мы успеваем заметить охотника, прятавшегося за деревом и нескольких шагах от мнимого святого Франциска, а в тишине, медленно кружась, опускаются на землю перышки убитых птиц.
Резкий звук сирены возвещает полдень, с холма Джаниколо палит знаменитая пушка, в Венеции бронзовые мавры ударяют своими молоточками по колоколу, воздух наполняется звуками тарантеллы:
Бедняки без дома, крова,
Все остаться мы готовы
Без последних панталон
За тарелку макарон…
Начинается макаронная симфония. Завесы спагетти опускаются перед нами, как бамбуковые шторы у входа в парикмахерскую. Из-за этих завес выходят (а потом за ними скрываются), следуя друг за другом, десятки полишинелей, несущих миски с макаронами. Они пытаются на ходу проглотить макароны, но за ними гонятся хозяева с палками и не дают им этого сделать. Какой-то неопытный турист, тыча вилкой в макароны, весь обвился ими, к нему бегут на помощь, пытаются размотать клубок, но спасатели также запутываются в макаронах, образуя исполненную отчаяния скульптурную группу наподобие Лаокоона… Раздаются крики о помощи, ревут пожарные машины, и пожарные с длинными лестницами, брандспойтами, топорами распутывают клубок. Невидимый голос все продолжает петь на мотив тарантеллы о том, что человек, чтобы существовать, нуждается в поливитаминах; мы видим на экране, как в желудок, нарисованный будто на учебном пособии, входят макароны, и сразу же все тело наполняется кровью, кровь начинает циркулировать, сердце становится ярко-красным и принимается громко стучать. Организму нужны также жиры, белки и углеводы, и мы видим их, они выстроились перед нами в ряд: масло, яйца, сахар входят в человеческое тело, — и оно трепещет от радости, на глазах полнеет и крепнет, переливается великолепными красками; Но стоит отнять у него масло, мясо, сахар, как тело бледнеет и делается дряблым, кости слабеют, особенно позвоночник. Он постепенно сгибается, человек все больше и больше сутулится. И вот по улицам идут толпы горбящихся людей, они с преувеличенным почтением раскланиваются перед другими, по-видимому более обеспеченными и влиятельными. Особенно привлекает внимание один горбун — он с акробатической ловкостью изгибается в поклонах и приветственных жестах, здоровается со всеми встречными, склоняясь все ниже, ниже, наконец уже не может больше распрямить спину.
Лучи солнца падают теперь на стены городов и селений Италии, которые в полуденной тишине языком мемориальных досок, щербин и выбоин рассказывают нам о прошлом — о великих или малых моментах давней или недавней истории. На стенах еще сохранились следы старых надписей, видны полустершиеся изображения свастики, германского герба. И тотчас же вслед за этими надменными символами мы видим охваченных паникой немцев, удирающих к берегам По. Одни пытаются переправиться через реку на лошадях, другие — на шатких плотах, третьи — просто вплавь, а за спиной у них гремят выстрелы партизан. Широкая, полноводная быстрая река уносит беглецов; в глазах у лошадей и у немцев безумный ужас. Повсюду одни лишь испуганные, расширенные от страха глаза, и вода постепенно закрывает их навеки.
На другой стене — следы пуль. Это стена селения Мардзаботто[18], перед ней толпятся мужчины, женщины, дети. На телах у них концентрические круги мишеней, по которым строчат из автоматов гитлеровцы.
В Милане — другая, наполовину разрушенная бомбежкой стена, на ней, словно на экране, сменяют друг друга различные картины. Воют сирены воздушной тревоги, слышатся взрывы бомб, летящих с неба как черные птицы. Ночные очертания Милана и других итальянских городов ярко вспыхивают в пламени пожаров, перемежаясь с фигурами фотографирующих их — уже сегодня — туристов.
Какого-то юношу взрывом бомбы разрывает на куски: его тело разлетается на десять, на пятнадцать частей — белое на черном; из глубины экрана несется горестный вопль, и появляется фигура матери, протягивающей руки в судорожной попытке собрать воедино разорванное тело сына. Вот, кажется, ей это уже удалось, мы уже узнаем его облик, и так дважды или трижды, но всякий раз не хватает какой-нибудь части, чтобы сложить его полностью и чтобы он ожил, — точно в детском конструкторе, из которого потеряны детали.
На другой стене надписи: «Да здравствует Бартали!», «Да здравствует Коппи!», «Да здравствует „Лацио“![19]» Мы на огромном стадионе, как раз в этот момент один из игроков готовится пробить штрафной. Все сердца учащенно бьются, сердца маленькие и большие, всех оттенков красного цвета, они пухнут и, кажется, вот-вот взорвутся или же остановятся. Одно шипит, словно из клапана выпускают пар, другое тикает как часы. В тишине слышно разнообразное биение сердец, и, когда футболист бьет ногой по мячу, сердца вновь начинают бешено колотиться — одних распирает от радости, другие сжимаются от горя, некоторые звякают, как колокольчики, — все, за исключением одного: мы видим санитарные носилки, на которых уносят какого-то зрителя, умершего от разрыва сердца.
На стене дома на окраине Турина, испещренной старыми и новыми надписями, мальчик рисует фигурки детей, играющих в лучах солнца. Цветы, собаки, дети с лицами в виде кружка и двумя точками вместо глаз… Вдруг мальчик оставляет эти создания своей фантазии и присоединяется к товарищам, играющим вблизи на поросшей сорной травой лужайке. Но что это за ржавая железная штука торчит из земли? Мальчик, полный любопытства, поднимает ее и зовет приятелей, но еще прежде, чем они успевают подбежать, снаряд взрывается. Это наследие войны, он лежал в земле с военных лет. Мы видим белую похоронную колесницу, везущую гроб с мальчиком, и следующих за ней детей, животных, цветы — все то, что он еще недавно рисовал на стене.
Солнце в этот час, должно быть, уже слегка притомилось и утратило бдительность, потому что к нему приблизилось несколько облаков, которые набрасываются словно бандиты, пытающиеся засунуть в мешок свою жертву. Но солнце, очнувшись, начинает крушить лучами облака, а те всё множатся и множатся, из кусков, отсеченных солнечными мечами, словно по волшебству, растут мириады новых. Между тем темные тени на земле начинают затягивать то один уголок, то другой, и на экране чередуются в соответствии с происходящей в небе борьбой то ярко освещенные, то затененные кадры — черные спины буйволов вдруг сменяются красными гребешками кур на крестьянском дворе. Но облака начинают одерживать верх, превращаются в огромные грозовые тучи и уже готовят в своем лоне сильнейший град, сбивая его, словно коктейль.
Люди на земле с испуганными лицами наблюдают за сражением в воздухе, и ветер вздымает клубы пыли, хлопает дверьми. Где-то в Южной Италии крестьянин с серпом в руке стоит, задрав голову вверх, посреди своего крошечного поля, на которое грозит обрушиться буря. Он шепчет ритуальные заклинания против туч и размахивает серпом. Но тщетно. С адским грохотом разражается гроза, молнии стригут овец, развеивая их шерсть по воздуху, валят деревья. Несколько молний победоносно поглощает громоотвод. Он отправляет молнии в землю, где их холодное пламя разветвляется на множество ручейков, освещающих норы кротов, клубки змей, корни растений. Одна молния злобно, как голодный волк, крутится вокруг крестьянской хижины в Лукании, пытаясь проникнуть вовнутрь. Испуганные личики детей следят за ее маневрами сквозь оконные стекла. Но, утомившись, молния в конце концов изливает свой гнев на курятник, поражая несчастную наседку, из-под которой вылезает множество жалобно пищащих золотистых цыплят.