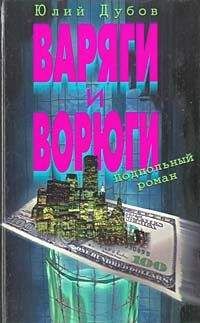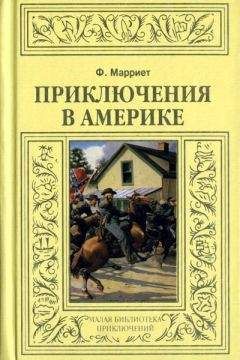Лахезис - Дубов Юлий Анатольевич
Тем временем под барабанный бой из пионерской комнаты принесли знамя, мы все встали, отсалютовали как положено, уселись обратно, и Куздря начала свою речь. Я сначала не очень понимал, про что она говорит — какой-то съезд партии, дорогой Никита Сергеевич, еще что-то. ©на долго про это рассказывала, все устали, и сзади начали бросаться жеваной бумагой. Но тут она перешла к уже понятному, и бросаться прекратили.
— И вот нашлись такие подлецы и изменники, — орала Куздря, потрясая кулаком, — которые воспользовались всем этим и стали расправляться с честными советскими людьми. Они их специально арестовывали, потому что сами были фашистами и выродками и завидовали честным людям, которые любили нашу советскую Родину. Эти враги бросали невинных людей в темные подвалы, пытали и расстреливали. Они хотели расстрелять весь наш народ, но весь народ расстрелять нельзя. Их всех разоблачили как фашистов и преступников, и они понесут суровое наказание.
Я представил себе длинную вереницу злодеев в фашистской форме, сгибающихся под тяжестью огромного бревна с надписью «суровое наказание», и мне вдруг стало смешно. Я еще представил себе, что на этом бревне своим необъятным задом сидит Куздря, и даже пожалел злодеев, хоть они и были подлецами и изменниками.
Когда я вырос, то узнал, что в то самое время разоблачали культ личности Сталина, и отец Фролыча, работавший когда-то под началом Абакумова, попал, как говорится, под раздачу. Но там, в спортзале, я этого по малости возраста понимать не мог, и мне было по-настоящему жутко, что рядом со мной, на той же лестничной площадке, жил такой матерый враг, приходившийся моему лучшему другу Фролычу родным отцом.
Вот тут-то, как только я это сообразил, про матерого врага, на меня и сошло озарение. Я вдруг понял, что надо говорить, чтобы Гришку не исключили из пионеров, и меня тоже, с ним за компанию. Я даже подпрыгнул на стуле, потому как обрадовался, что мне пришла в голову такая гениальная мысль.
А Куздря все бушевала на сцене.
— И сегодня на нашем собрании как раз и должен был выступить пионер Фролов. Он вчера мне обещал под честное пионерское слово. Но он сегодня даже не пришел в школу, побоялся посмотреть в глаза своим товарищам. Этим самым он совершил поступок, недостойный пионера и нашего советского школьника. Он подвел всю нашу школу и пионерскую организацию. Я сейчас даю слово вашему товарищу пионеру Шилкину. Шилкин! Иди сюда!
Я покосился на Миронова, ожидая, что он меня опять обзовет Иудой, но тот сидел молча. Не хотел идти против Гавриша.
Я поднялся на сцену.
— Мы все знаем про пионеров-героев, — сказал я, глядя прямо на журналиста Николая Федоровича, сидящего на последнем раду со своим блокнотом. — Был такой пионер Павлик Морозов. Он был настоящий герой и не пожалел родного отца, когда узнал, что тот помогает кулакам.
Я помню, как в этот момент мне вдруг стало страшно совсем по-настоящему. Потому что именно сейчас надо было решать — сделать ли так, как хочет Куздря, или исполнить свой гениальный замысел. Когда вот так бывает страшно, то кажется, будто ты только что съел сто порций мороженого, и эти порции внутри склеились в холодную веревку, которая как удав сжала все кишки и стала их давить. А дальше все случилось как тогда, под елкой, когда меня непонятная сила потащила из квартиры, и я заговорил дальше.
— Гриша Фролов — тоже настоящий пионер-герой, как Павлик Морозов. Он узнал, что его отец против советской власти. И он решил, что он сам арестует своего отца и сдаст его в милицию. У них дома есть настоящий пистолет, и Грища знал, где он лежит. Он достал пистолет, подошел к своему отцу и сказал: «Руки вверх, ты арестован». Но его отец стал сопротивляться, он вырвал у Гриши пистолет и хотел его застрелить, но потом передумал и просто ударил Гришу пистолетом по голове. Поэтому Гриша не пришел сегодня в школу, потому что он лежит дома раненый.
Я старался не смотреть в сторону Куздри, я понимал, что сейчас она заорет своим противным голосом, и я не успею договорить. Поэтому я зачастил, глядя в потолок:
— После того как Павлик Морозов разоблачил своего отца и его расстреляли, кулаки решили отомстить Павлику: они подстерегли его в лесу и убили, и теперь тоже всякие враги хотят отомстить Гришке Фролову за то, что он такой смелый и принципиальный. Вот они и решили, чтобы здесь на собрании исключить его из пионеров, как будто он просто струсил и не пришел, а на самом деле он лежит раненый, и мы должны им гордиться, а не исключать его, потому что он взаправду герой.
Тут я уже решил взглянуть на Куздрю. Она сидела совершенно окаменевшая, с багровыми пятнами на щеках и раскрытым от изумления ртом. Потом рот захлопнулся, и я даже услышал, как лязгнули зубы.
— Ты! — прошипела она. — Шилкин! Ну, Шилкин! Ты здесь! Своим товарищам-пионерам! Врешь в глаза! Да ты знаешь что! Вылетишь сейчас! В два счета! Из школы! Из пионеров! С дружком своим вместе!
У меня неожиданно прорезался голос.
— Не имеете права! — завопил я на весь зал. — Не имеете! Я честное пионерское даю! Вот тут дядечка из газеты сидит! Проверяйте! Все проверяйте! А так не имеете права! Вы сами, Людмила Васильевна, нарочно все это устроили, чтобы Фролыча исключить. Вот про вас и напишут в газете, кто вы есть. Вы, Людмила Васильевна, и есть самая настоящая врагиня. Вот!
Вот после этого крика у меня вдруг пропали все силы. Будто бы из воздушного шарика выпустили весь воздух, он вышел со свистом, шарик обмяк и съежился. Мне стало все безразлично. И я заплакал, очень громко. Но мне настолько было все равно, что даже не было стыдно. А кругом все замолчали и только смотрели, как я плачу.
Тут Гавриш поднял руку.
— Людмила Васильевна, — сказал он, — а можно… Мы с Мироновым можем сбегать сейчас домой к Фролову. Тут близко. И тут же обратно.
— Отлично, — с какой-то яростной злобой закричала Куздря, тыча в меня толстым пальцем с облезшим красным маникюром. — Отлично! Вот сейчас мы во всем разберемся. Значит, так. Никто никуда не уходит. Гавриш, Миронов, Дюжева! Быстро к Фролову домой и немедленно сюда. Сейчас все будет понятно. Ну, Шилкин, смотри. Еще есть у тебя возможность все исправить. Признайся честно, что ты все это придумал.
Сил у меня хватило только на то, чтобы помотать головой. Слезы продолжали литься без остановки, еще потекло из носа, и началась икота. Зверская какая-то, как кукареканье. Но никто не смеялся. Все смотрели на меня и молчали. Даже жеваной бумагой никто не бросался. Я сквозь слезы видел, как к Куздре подошел дяденька-журналист, что-то тихо сказал, она покивала головой и проводила его до выхода из зала, а потом вернулась на сцену и зашелестела у меня за спиной какими-то бумагами.
Я стоял перед всеми, будто у позорного столба, плакал и икал.
Потом журналист вернулся в зал и встал у окна, через минуту буквально влетели Гавриш и остальные, и я понял, что мое время кончилось. На лице у Гавриша было написано какое-то непонятное торжество.
— У Фролова врач, — закричал Гавриш прямо с порога, — нас к нему не пустили. У него целых два врача, и еще нянечка, ему укол делают. Его в больницу хотят забрать. Нам врач сказал, что с ним нельзя разговаривать.
Я думал, что раньше в зале было тихо. На самом деле, только тут я понял, что такое настоящая тишина. А еще я испытал такое торжество, будто в одиночку выиграл тяжелую и страшную войну, даже трясучка от нахождения в центре всеобщего внимания пропала. Я повернулся к Куздре, затопал ногами и заорал что-то невнятное, показывая на нее пальцем, и весь спортзал, все наши ребята тоже заорали и затопали.
Она вскочила и вылетела вон из зала, а мы продолжали топать и орать.
Дальше не помню точно, я шел, меня о чем-то все время спрашивали, но я просто отмахивался и шел, забрал в классе портфель, потом пальто в раздевалке, вышел на улицу, и там меня остановил журналист. Он хмурился и был очень недоволен.
— Ну заварил ты, Костя, кашу, — сказал он. — Это я просто-таки в кино сходил, можно сказать. Ну, теперь признавайся — придумал все? Про пистолет? И все остальное?