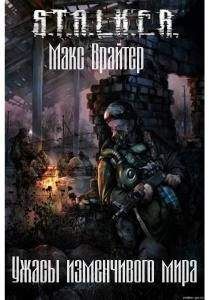Я назвал его галстуком - Флашар Милена Митико
Хасимото гуляет по сей день. Я столкнулся с ним недавно в универмаге. Спросил: «Как дела?» Он: «Без обвалов». Его смех не тронуло время. Он сохранил юношескую свежесть. «А как твоя жена?» — «Да вон же она стоит. — Он указал на женщин, копавшихся в контейнере с уцененными вещами: — Та, что с шарфом». Я ужаснулся. Морщинистое лицо. Ей было сто, нет, сотни лет. «Что с ней случилось?» Он засмеялся, обнажив белые зубы. «Жизнь, старик! Жизнь!» — сказал он чуть громче, чем требовалось.
Я смотрел, как они поднимаются на эскалаторе, он — расправив плечи, она — сгорбившись. Неравная пара. Они стояли спиной друг к другу, каждый сам по себе.
47
К чему я веду. Ложь имеет свою цену. Солгав однажды, ты попадаешь в другое пространство. Вы живете под одной крышей, обитаете в одних комнатах, спите в одной постели, укрываетесь одним одеялом. Но ложь прогрызается между вами. Образует непреодолимый ров. Разламывает дом на две части. И кто знает, сложилось ли бы все по-другому, скажи ты правду?
Я, никогда не изменявший Кёко, чувствовал себя так, будто у меня есть любовница. Имя ей иллюзия. Она некрасива, но достаточно мила. Длинные ноги. Алые губы. Волнистые волосы. Я без ума от нее. Хотя я не собираюсь начинать с ней новую жизнь, я все равно строю воздушные замки. Я вожу ее в самые дорогие рестораны города. Кормлю. Снимаю апартаменты. Содержу ее. Каких бы денег мне это ни стоило. Она удовлетворяет меня и мое мужское эго. С ней я снова молод и силен. Она шепчет: «Весь мир у твоих ног». Она верит в меня, а я верю в ее веру в меня и позволяю ей с головой окутать меня лестью. Я удобный авантюрист.
Дома я словно в мыльном пузыре. Его стенки такие тонкие, что он лопнет от малейшего касания. Поэтому я делаю все, чтобы меня не трогали. Я сижу перед телевизором, смотрю новости. Если Кёко спрашивает меня, как дела на работе, или почему я перестал брать сверхурочные, или обсудил ли я с начальником тот или иной вопрос, я отвечаю: «Тс-с. Не сейчас». Она спрашивает еще раз. Уже помягче. Я говорю: «Давай позже. Пожалуйста». Она пожимает плечами. Я осмеливаюсь сделать вдох. Пузырь, в котором я нахожусь, едва заметно дрожит от моего дыхания.
— Это решение. — С этими словами он достал свой бэнто. Снова рис с лососем и маринованными овощами. — Я решил для себя, что буду притворяться. Поскольку обещал, что повседневность, наша повседневность, станет нашим убежищем. Слово нужно держать. До самого конца. — Наконец он взглянул на меня и подмигнул: — Просто Кёко готовит слишком вкусные бэнто, разве можно от них отказаться?
48
— У вас есть дети? — спросил я.
— Нет. — Он слегка втянул голову в плечи. — Нет. А что?
— Я тут подумал, что вы были бы хорошим отцом.
— Я?
— Да, вы.
— И почему ты так подумал?
— Потому что вы сами порой напоминаете ребенка. Во время еды, например. Вы едите как ребенок, самозабвенно.
— Разве это делает меня хорошим отцом?
— Ну, скажем так: присутствующим в моменте отцом.
Он хотел было что-то сказать, но промолчал.
— Видите ту девочку? Она непрерывно водит пальцем по луже. Рисует что-то. Смотрит, как рисунок расплывается и исчезает. И так по кругу. Рисует прозрачные картинки, которые все равно расплывутся. Это абсурдная и вместе с тем счастливая игра. Девочка без конца смеется. Я часто задаюсь вопросом, почему мы перестаем быть абсурдно счастливыми. Почему, когда становишься взрослым, сидишь в тесных комнатах, где бы ты ни был, максимум переходишь из одной комнаты в другую, тогда как в детстве в наших комнатах не было стен. Такие у меня остались впечатления: когда я был маленьким, мой кров был моим настоящим. Ни прошлое, ни будущее не влияли на меня. Хорошо бы и сейчас было так. Например, чтобы работать не ради результата, а увлеченно, без усилий.
Он снова закусил губу.
Я вздохнул, предвосхитив его вздох.
— Было бы и правда замечательно, — согласился он.
49
Мой поезд, по крайней мере, ушел, и я рад, что он укатился без меня. Сколько себя помню, у меня никогда не было желания достичь какой-либо цели. Для себя, я имею в виду. Хорошие оценки я получал не для себя, а для родителей, которые думали, что из меня выйдет что-нибудь путное. Это были их амбиции, не мои. Их представления о наперед распланированной жизни.
Я до сих пор храню школьную форму. Она висит в самом темном углу моей комнаты, оболочка без содержания. Она напоминает один из тех образов, которые ты встречаешь во сне. Ты не знаешь его, но чувствуешь необъяснимое родство. Если рассмотреть его поближе, окажется, что он — твоя тень.
Сейчас я утонул бы в этой форме. Смехотворное бы получилось зрелище, такое же смехотворное, каким я чувствовал себя, когда носил ее. Человек, одетый как школьник, делал вид, что чему-то учится, хотя на самом деле забывал все, что важно. Еще одна причина, по которой я стал хикикомори. Хотел вновь научиться видеть. Лежа на кровати, я смотрю на трещину в стене — результат моей вспышки ярости. Я вглядываюсь, пока не погружусь в нее почти полностью. Время имеет морщины, и это одна из них. Я вглядываюсь в нее, чтобы увидеть многочисленные ситуации, на которые закрывал глаза.
50
Мне было четырнадцать. Заурядный школьник. Получал хорошие, но не отличные оценки. И поддерживать эту заурядность, как я уже понял, было необходимо для выживания. Я старался быть нормальным. Ни при каких обстоятельствах не выделяться. Поскольку тот, кто выделяется, нервирует тех, кому наскучила их нормальность, кому нечем больше заняться, кроме как травить не такого, как они. Кто же согласится на подобное? Кто добровольно пойдет на пытки? Так что ты покоряешься и рад быть среди тех, кто не выделяется.
Но Такэси выделялся. Кобаяси Такэси.
Он вырос в Америке, недавно вернулся. Он произносил «Нью-Йорк», «Чикаго» или «Сан-Франциско» так, словно эти города были совсем рядом, за углом. Его английский журчал как ручей — не наслушаться. Он говорил: hi, thank you и bye. Слова из его рта веяли мягким ветерком. Слишком мягким, посчитали некоторые и однажды подкараулили его. На следующий день у него было одним зубом меньше. Он шепелявил: «Я упал». Зуб вставили, а шепелявость осталась. Хуже того. Он начал ошибаться. Когда учитель английского просил его что-нибудь сказать, он оговаривался. Когда просил его что-нибудь прочитать, он запинался. С каждым днем он утрачивал способность бегло говорить на языке, в среде которого вырос, который когда-то был для него родным. Дошло до того, что он старался имитировать наш акцент. Он произносил «Сан-Фуран-сисуко». И Сан-Франциско сразу становился далеким-далеким, недосягаемым местом. Было невыносимо слушать, как он мучает себя. Перед каждым словом он останавливался на мгновение и оплакивал его.
Что самое неприятное: я мог бы быть на его месте. Но меня не трогали. В конце концов, я был всего лишь наблюдателем, необходимым звеном, которое смотрит, а потом закрывает глаза. Свою заурядность я сохранял, притворяясь, что ничего не вижу. И, что парадоксально, делал это умело. В четырнадцать лет я уже овладел мастерством намеренно закрывать глаза на чужие мучения. Мое сострадание ограничивалось безмолвным наблюдением.
— Хм.
И снова «хм».
Он напевал себе под нос мелодию. Закурил сигарету. Продолжил напевать. Пепел упал на грудь, легкий ветерок сдул его. Бренчание велосипедного звонка. Мне хотелось заплакать. С кустов осыпались цветы, нежно-желтые лепестки.
— Такэси ведь был не единственным?
— Нет. Была еще Юкико.
— Хм.
— Миядзима Юкико.
Ком в горле стал еще больше. В тот понедельник я так и не сказал ничего, кроме ее имени.
51
— Кажется, будет дождь. — Он зевнул.
Я тоже посмотрел на пасмурное небо.
— Завтра… Что у нас завтра? Верно. Вторник. Неделя только-только началась. Если будет дождь… — Он выудил из кармана карточку. Высунув язык, нацарапал на ней большими буквами: MILES ТО GO. — Джаз-кафе. Если пойдет дождь, — сказал он и протянул мне карточку, — я буду там.