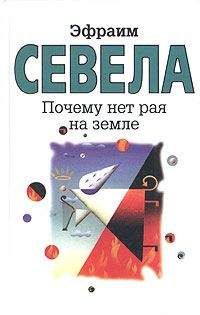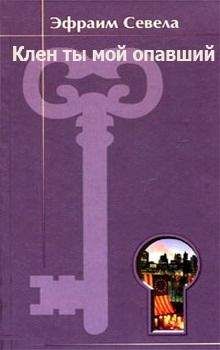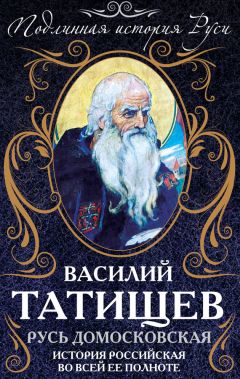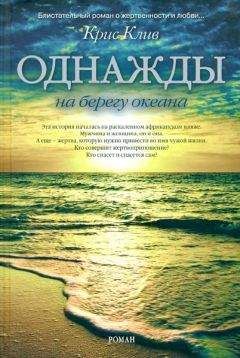Эфраим Севела - Моня Цацкес – знаменосец
– Партийный билет при мне? – похлопал себя по нагрудным карманам подполковник Штанько. – Маруся, за мной!
Они покатились по ступеням, и топот десятков ног утонул в сухих ударах зенитных орудий. Осколки гулко застучали по железной крыше. Где-то поблизости ухнула бомба, тряхнув стены.
Цацкес и Кац вывалились из шкафа.
Взрыв повторился. Из оконной рамы со звоном посыпались осколки стекла. Холодный воздух полоснул их по ногам.
– Где убежище? Я вас спрашиваю, Цацкес? – Старший политрук путался в штанинах галифе. – Ведите меня в убежище!
– Пусть вас черти ведут, – лениво отмахнулся Моня Цацкес, деловито напяливая на себя обмундирование.
Косо подпоясав шинель ремнем, он сгреб винтовку, двинулся к выходу.
– Постойте, не оставляйте командира, – бросился за ним всклокоченный политрук, прижав к груди сапоги с портянками.
Рванула еще одна бомба. Им в спину ударила воздушная волна и под звон стекла вымела обоих из квартиры.
Они не вошли, а ввалились в душный, набитый людьми подвал. И стали осторожно протискиваться подальше от входа.
– Политрук! – послышался удивленный голос подполковника Штанько. – Вас бомбежка застала возле моего дома?
– Так точно, – пролепетал Кац.
– А это кто? – уставился командир на Моню. – Вот ты где, голубчик, ошиваешься? Тебя за знаменем послали… оказали честь… А ты? Куда отлучился? Небось у бабы застрял? В нашем доме? Га? Ботинки не зашнурованы, воротник расстегнут. Что за вид? Под трибунал пойдешь! Политрук, взять его под арест.
От нового взрыва посыпалась штукатурка с потолка и лампы в подвале робко замигали.
– Батюшки-светы, – пролепетала Марья Антоновна, прижимаясь к мужу. Ее слова не выражали сочувствия рядовому Цацкесу. Они выражали только страх. – Все пропало, – тихо причитала Марья Антоновна. – Сгорит дом, имущество… Всю жизнь копили…
– Молчать, – оборвал ее подполковник Штанько. – Наживем, Маруся. Были б кости, мясо нарастет.
И вдруг его осенило.
– Знамя! Где полковое знамя? Оставила наверху, курва? Все – загубила меня! Подвела под трибунал!..
Моня Цацкес в этот момент тоже вспомнил, что не только знамя осталось наверху, в квартире, но и его противогаз валялся на полу в спальне, а за потерю казенного имущества…
– Товарищ подполковник, – сказал Моня проникновенно, – разрешите мне… Принесу знамя!
– Ты? Молодец! Ступай! Спасешь знамя! Родина…
Моня не слушал, что дальше нес подполковник Штанько, впавший в слишком возбужденное состояние, а протолкался к выходу и поскакал по ступеням на четвертый этаж.
Двери квартиры Штанько были распахнуты настежь, и холодный ветер из разбитых окон шевелил простыни на смятой кровати. Моня надел на себя противогазную сумку, сунул под мышку пакет со знаменем и уже в прихожей споткнулся о ремень с кобурой, откуда торчала рукоятка пистолета. Это, вне всякого сомнения, было личное оружие подполковника Штанько. Моня прихватил с собой и ремень с пистолетом.
Подполковник Штанько чуть не прослезился, бережно принимая у Мони пакет со знаменем. И сидевшие в подвале жильцы дома, штатские люди, тоже растрогались при виде этой сцены.
– От лица службы – благодарю!
– Служу Советскому Союзу! – неуверенно произнес Моня Цацкес, и несколько женщин вокруг них заплакали.
Марья Антоновна при всех обняла Моню и поцеловала в губы.
Моня протянул подполковнику его пистолет с ремнем и вытянул руки по швам.
– Рядовой Цацкес готов идти под арест.
– Отставить, рядовой! – Командир озарился отеческой улыбкой. – Ты искупил свою вину перед Родиной. Ты спас знамя полка. И на торжественном параде, в воскресенье, я тебя назначаю знаменосцем. Понял? Все. Дай мне пожать твою мужественную руку.
Их руки соединились в крепком мужском пожатии, исторгнув слезы у женщин.
Новый взрыв обрушил с потолка облако штукатурки, припудрив командира полка и рядового, не разжимавших рук.
– Батюшки-светы! Святые угодники! Мать пресвятая богородица, – скороговоркой бормотала Марья Антоновна, жена командира Красной Армии и коммуниста. Эти слова приходили ей на ум каждый раз, когда она слишком возбуждалась.
Полковой марш
Старшина Качура был большой любитель хорового пения. А из всех видов этого искусства отдавал предпочтение строевой песне.
– Без песни – нет строя, – любил философствовать старшина и многозначительно поднимал при этом палец. – Значит, строевая подготовка хромает на обе ноги… и политическая тоже.
Недостатка в людях с хорошим музыкальным слухом рота не испытывала. В наличии имелись два скрипача и один виолончелист. Правда, без инструментов и без понятия, что такое строевая песня. Сам старшина играл на гармошке тульского производства и повсюду таскал эту гармонь с собой, отводя душу в своей каморке при казарме, когда рота засыпала и со старшинских плеч спадало бремя дневных забот.
Любимой строевой песней старшины была та, под которую прошла вся его многолетняя служба в рядах Красной Армии. Песня эта называлась «Школа красных командиров» и имела четкий маршевый ритм. И слова, берущие за душу.
Шагая по утоптанному снегу рядом с ротной колонной, старшина отрывистой командой «Ать-два, ать-два!» подравнивал строй и сам, за отсутствием запевалы, выводил сочным украинским баритоном:
Школа кра-а-асных команди-и-и-ров
Комсостав стране лихой кует.
Последние три слова он выстреливал каждое отдельно, чтоб рота под них чеканила шаг:
Стране!
Лихой!
Кует!
Дальше, по замыслу, рота должна была дружно, с молодецким гиканьем подхватить:
Смертный бой принять готовы.
За трудящийся народ.
Но тут начинался разнобой. Евреи никак не могли преодолеть новые для них русские слова и несли такую околесицу, что у старшины кровь приливала к голове.
– Отставить! – рявкнул Качура. – Черти не нашего бога! Вам же русским языком объясняют, чего тут не понять?
Но именно потому, что им объясняли русским языком, евреи испытывали большие затруднения.
Одно радовало сердце старшины: в роте объявился кандидат в запевалы, каких во всей дивизии не сыскать. Бывший кантор Шяуляйской синагоги рэб Фишман, получивший вокальное образование, правда незаконченное, в Италии.
Старшина лично стал заниматься с Фишманом, готовя его в запевалы. И все шло хорошо. О мелодии и говорить нечего – Фишман схватывал ее на лету. И слова выучил быстро. Правда, старшине пришлось попотеть, шлифуя произношение, от чего кантор Фишман, человек восприимчивый, очень скоро заговорил с украинским акцентом.
Беда была в ином. Что бы Фишман ни пел, он по профессиональной привычке вытягивал на синагогальный манер со сложными фиоритурами и знойным восточным колоритом. В его исполнении такие простые, казалось бы, слова, как: