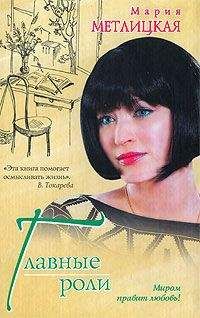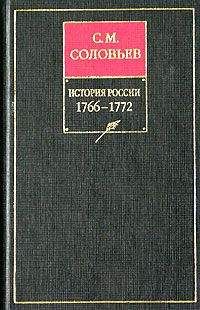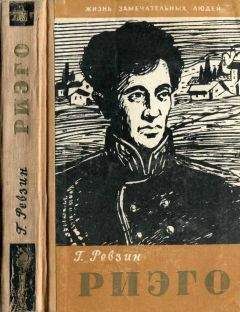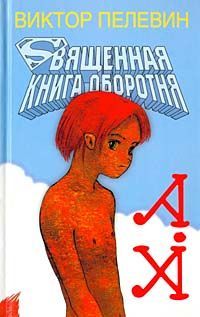Мария Метлицкая - Миленький ты мой
На стенах картины – пейзажи и два портрета. Пейзажики так себе, типа «лес и река», все просто и слишком наивно. Или новостройка Москвы: поле, горизонт и пара новых многоэтажек. Я не поклонница соцреализма…
А вот портреты довольно занятные. На одном – сам Герой, при полном параде и орденах. Физиономия хмурая и недовольная. Мрачная физиономия. Видно, несладко ему все-таки было там, внутри себя. Неспокойна была его душонка. А может, просто когда-то надел эту маску, да так и прилипла она навсегда: строгий босс-академик. Учитель. Маэстро и мэтр. Патриарх и пророк.
А на втором портрете – женщина. Молодая, но грустная. Серьезная очень. Темные, тяжелые волосы, темные глаза, длинные брови. В скромном черном свитерке и цепочке с крестом. Красивое и необычное лицо. Печальные глаза, насупленные брови. Легкая, почти неуловимая усмешка на красивых губах. Не то чтоб шедевр, но – мило. И живо. На холсте, в самом низу, подпись художника. Неразборчиво и заковыристо. Ну да и бог с ним!
А вот портрета любимой супруги не наблюдается. И кто эта женщина в свитерке? Кто? Не она, не Лидия Краснопевцева, нет.
А кто же? Может быть, дочь? От первого брака есть дочь. Точнее, дочь его первой жены. Взрослая тетенька, пенсионерка. Немногим младше последней жены. Но нет, не она. Дочурку я эту видела где-то в журнале. Давала интервью про заслуженного папашу. Некрасивая такая, тусклая. С тяжелым подбородком и совиными глазами. Темноволосая, длинноносая. Унылая тетка. Совсем не портретная красотка, совсем.
Вот и еще загадка! Что ж, отгадаем.
Стол письменный тоже внушителен – огромный, на львиных ногах, под зеленым сукном. Чернильница – из антикварных, длинная, с отделением для перьевых ручек, с баночками для чернил и фигурками зверей – белки и зайцы. Похоже что все – серебро. Стопки газет – пожелтевшие, ветхие. Совсем простой будильник «за рубль пять». Конечно, «заснувший». И слава богу! Тикали они так, что не уснуть. Помню такой.
И стакан в подстаканнике – разумеется, серебро. На подстаканнике – вождь всех народов Иосиф Виссарионович. Гордый, орлиный профиль. С другой стороны – башня Кремля. Ого-го!
Стакан, разумеется, пуст и отмыт. Стоит, будто поджидает хозяина. А не дождется.
Диван, на который определили меня, – из той же эпохи. Сталинский классицизм. Или ампир? Я такие в кино видала – кожаная высокая спинка, деревянный виток наверху и жесткие валики.
Постелила. Жестковато и скользко – простыня «едет». Ну, ничего. Переживу. Скачусь – поднимусь. Возле дивана ковер лежит. Все ерунда! Главное – дело. Главное – что я тут. Как долго я к этому шла…
А дело идет пока… Тьфу-тьфу-тьфу!
В кабинете пахнет пылью и тленом – пыль в четыре пальца, не меньше. Ох, не задохнуться бы.
Открыла окно – на улице минус двадцать. Холодновато. Одеяльце мне выдали «жидкое» – древняя и колючая «верблюжка». Жесткая – не подоткнуть.
Усмехаюсь: под ним наверняка спала дорогая Полина Сергеевна. Милая мама моя.
Все по наследству! И нищета, и безродность. И ты всегда останешься голытьбой и босотой. Потому что судьба. Только спала моя мама, Полина Сергеевна, не в кабинете, наверное. Туда бы не допустили. А где же спала? Вот интересно! В каком закутке? Завтра узнаю. Узнаю, где спит прислуга.
Но мы это дело поправим! Изменим, так сказать, классику жанра. Пусть будет однажды не так!
По справедливости будет.
Сон не идет… У меня так всегда, если с усталости. Ворочаюсь на скользкой коже – холодно и неуютно. Ладно, прынцесса на горошине! Цаца какая!.. А в твоей избе было лучше? Вспомни-ка: как печка к утру остывала, как из окон дуло… Разбитое стекло бабуля склеила серой замазкой – уродливо, будто шрам на лице. Впрочем, при всей прочей убогости…
Подгнившие половицы стонали, скрипели. Растрескавшаяся печь нещадно дымила – сколько не замазывай трещины глиной. Гудел и трясся как сумасшедший старенький холодильник «Саратов». Почти не морозил, а трещал – вот-вот крякнется!
Но нам хватало и его. Все остальное хранилось в погребе. «Спасибо деду Сереже!» – поминала мужа бабуля добрым словом только за это.
Да и что остальное? Все, что мы с бабой Маней надыбаем! Летом, в лесу. Сначала шла земляника, позже – черника. Дальше – малина, а уж за ней брусника и клюква. Особенно баба Маня уважала последнюю, говорила: это наши с тобой, Лидка, главные витамины! Без них пропадем!
Ну и варенье, конечно, – основное лакомство! Конфет в лавку почти не завозили – только белесые «Школьные» и липкие подушечки с кислым повидлом. Все без обертки. Я брезговала, когда видела налипших ос и зеленых мух. Я вообще была очень брезгливая. Баба смеялась: в деревне, Лидка, брезгливых нет!
Баба говорила – «гребую». По-деревенски значит «брезгую».
Потому оставалось варенье. Но сахар! А поди, достань – все ведь варят.
Да и деньги… Стояли в очередях, доставали сахарок. И бабуля варила варенье. Больше всего я любила малиновое. А из малины лесной – о, это чудо! Как она пахла! Мелкая, сладкая – настоящее лакомство. Чернику считала безвкусной, пустой. А баба Маня ее уважала: для глаз – это варенье, говорила, а сухую – «от живота».
Точней, от поноса. Баба Маня говорила по-простому: «от дрисни».
А живот схватывал часто, потому что мы, дети, обрывали незрелые яблоки и сливы в садах.
Еще бабуля сушила лапчатку-трилистник, как она его называла. Тоже от «ентого дела». Она вообще знала кучу лечебных трав, моя бабка.
А куда было деваться? В поселке – а до него шестнадцать км, а если весна или осень? Распутица? – в поселке один только анальгин. Вот и лечила баб Маня травой. И помогало – от кашля, от головы, живота. Пучки этих трав висели в сенях, головками вниз. И пахли! Как они пахли… Мята, полынь, зверобой…
Малину тоже сушили – на печке. Потом складывали в баночку – на зиму. А я эту малину таскала. Она была как конфеты. Бабуля ругалась.
И огород – наш кормилец. Картошка, морковь, капуста, свекла. Картошки побольше – главная «писча», как говорила бабуля. Копали по осени, перебирали, сортировали – и в погреб.
А в августе начинались грибы. Вот это была и работа, и радость! Брали все – все пригодится! Не брезговали и сыроежкой, и козлятами, и свинушкой. Солили, сушили и – в погреб. Капусту в октябре, после первых морозцев, бабушка квасила. Укладывали в бочонок и тоже ставили в погреб.
Хлеб не пекли – где взять дрожжи? Они были редкостью. Иногда привозила из города соседка. В лавку нашу хлеб завозили всего раз в неделю. Брали помногу – буханок по шесть. Но пропадал он довольно быстро – черствел и покрывался серой плесенью. Тогда шел скотине. Пекла баба Маня лепешки из грубой и серой муки. Получались они мокроватые на разломе, жестковатые, но я их обожала!