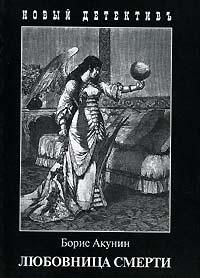Владимир Березин - Однокурсники (отпускная повесть)
Наверное, можно было сделать что-то необычное — например, стремительно разбогатеть, открыв банкомат, но эти мысли унесло, как октябрьскую листву ветром. Сашича не пугали видеокамеры, которые фотографировали окрестности банкомата, гораздо важнее, что было в этой идее что-то невыносимо пошлое.
Он начал думать, не стоит ли уволиться и завести себе для подвигов синюю майку с жёлтой звездой. Пойти тайным героем по свету, помогая людям. То есть подкручивая и завинчивая неожиданно открутившееся и пришедшее в негодность.
Но теперь он был не один, и его даже повезли на дачу знакомиться с родителями. Они понравились друг другу, оттого хорошо и весело выпили. Сашич подумал, не рассказать ли им про ножик, но в последний момент просто поленился шевелить губами. Яблочная водка затуманила глаза девушки, поэтому Сашич настоял, что его подвозить не нужно.
Он поехал от неё на автобусе, но, задумавшись, перепутал маршруты. Автобус привёз его на соседнюю станцию, где вокруг него сразу сгустилась чернота майской ночи.
И тогда из этой темноты выступили двое, будто с трудом проявляясь на тёмном снимке.
Двое преградили ему путь. Их лица были пусты, как оловянные миски в ночной столовой. Один был длинный, а другой — низкорослый, но всё равно они были похожи друг на друга своей внутренней пустотой как близнецы.
Сашич сразу пронял, что сейчас будет. И точно — длинный, зайдя сзади, вдруг схватил его за горло. Этот длинный, пыхтя, душил Сашича, и сил не было вырваться из его цепких рук, которые отчего-то пахли рыбой.
В это время коротышка достал нож и, нехорошо улыбнувшись, пошёл к ним. Нож у коротышки был вовсе не перочинный — хороший убойный нож с широким и длинным лезвием.
И тут Сашич понял, что его будут убивать. Он вырос в одном из самых угрюмых районов города, рядом с бесконечными общежитиями химического комбината, и знал, что значат эти пустые лица и глаза.
Ноги начали слабеть, и Сашич почувствовал: ещё секунда, и он потеряет волю. Тогда жизнь его неминуемо уйдёт струйкой в пыльный песок обочины.
Тут он вспомнил про ножик и всё же успел дотянуться до кармана, проиграв длинному ещё несколько глотков воздуха.
Нож сам раскрылся в его руках, и Сашич впервые увидел в нём тонкое короткое лезвие. Не целясь, он воткнул его в бедро длинному. Удар оказался такой силы, что крошечное лезвие обломилось и осталось в ране. Эффект, однако, оказался неожиданным — руки на горле Сашича мгновенно разжались, а что-то чёрное и липкое окатило его фонтаном.
Сашич вырвался и, не оглядываясь, побежал к станции.
Оказавшись довольно далеко и попав в светлый круг фонарей, он остановился и принялся рассматривать ножик. Что-то было с ним не так.
Он лихорадочно поддел ногтем лезвие. Вдруг то, что было ножом, распалось в его руках на две пластмассовые пластинки и несколько старых железяк. Потёки крови съели сталь, как не съедает её кислота за неделю. В руках у Сашича осталась какая-то труха — мерзость, тлен. Будто картофельные очистки, осыпалось всё это мимо пальцев.
Ножик был мёртв.
Сашич тупо посмотрел на то, что изменило его жизнь, как смотрят дети на убитую лягушку.
И, помедлив, разжал пальцы, отпуская мёртвое тело на свободу.
После этого он двинулся к освещённой платформе, где уже вставала звезда последней электрички. История завершила свой круг, и вот он пробирался мимо спинок кроватей и проволоки, которыми местные жители окружили свои незаконные посадки. Сашич вспомнил чьи-то слова о том, что в этом мире можно надеяться только на выращенную своими руками картошку.
Электричка призывно закричала, и он наддал ходу. Сашич бежал, а в спину ему глядели невидимые в темноте голубые глаза огородов.
МОСКВИЧ
Они сидели в гараже.
— Знаешь, Зон, я бы вывез эту тачку куда-нибудь, снял номера и бросил.
— Думаешь, никак?
— Никак. — Раевский был непреклонен. — Запчасти, конечно, можно снять, но с остальным — труба. Что ты хочешь, пятьдесят лет тачке. Я тебе, конечно, её доведу сегодня, километров сто проедешь — да и то, у тебя хороший шанс просто выпасть вниз через дырку в полу.
Зону было очень неприятно поддерживать этот разговор — ему казалось, что горбатый “Москвич” смотрел на него глазами-фарами как собака, которую собираются усыпить.
Надо было продавать машину раньше.
Но она давно стала членом семьи. Три поколения Рахматуллиных, а теперь их наследник Зон, перебирали её потрох, мыли и холили — для трёх поколений Рахматуллиных она была любимой, как для их предков лохматые лошадки, на которых они сначала пришли завоёвывать Русь, а потом исправно служили русским царям, рубя кривыми саблями врагов империи.
Дед Зона и машину водил, как будто шёл в конном строю — точно вписываясь в поток, держа интервал, и берёг старый “Москвич” как старого, но славного боевого коня.
Машину он получил, ещё не простившись с полковничьей папахой.
Зон не знал подробностей его службы, но на серванте стояла карточка, где дед был ещё в довоенной форме НКГБ, а щит лежал поверх меча на его гимнастёрке.
После второго переезда от деда, впрочем, осталась только эта карточка. Зон был кореец, но ещё он был человеком без отца и матери, принятым в семью Рахматуллиных много лет назад. Он был человеком без рода, явившимся на свет далеко, на чужой войне, сменившим несколько приёмных родителей — а тогда стал москвичом.
Неприметным москвичом, проводившим больше времени в своём музее, чем дома и вообще — на московском воздухе.
“Москвич”, да.
Зон спросил Раевского, сколько потянут запчасти, ужаснулся цифре и стал убирать в мешок пустые бутылки из-под пива. Деньги были нужны, деньги нужны были именно сейчас — и не из-за жены, а совсем из-за другого.
— Слушай, а у тебя долларов триста нет? Я отдам, — сказал Зон, ненавидя себя.
— Нет, брат, не дам я тебе денег. — Раевский вытащил сигаретную пачку и выщелкнул одну — прямо фильтром себе в рот. — И не потому, что нет. Потому что я знаю, что не отдашь, и мы поссоримся. Между нами пробежит трещина, и мы оба это понимаем.
— Шаруль бело из кана ла садык, — процитировал Зон старое письмо, кажется Грибоедова. Грибоедов, писавший это по-персидски, был всю жизнь в долгах, но это ему ничуть не мешало, подумал он про себя.
Раевский вопросительно посмотрел на него. Незажженная сигарета свисала с его губы.
— Плохо, когда нет истинного друга, — удрученно перевел Зон.
— Не разжалобишь. — Раевский щелкнул зажигалкой. — Для твоего же блага. И если хочешь говорить точно — шарру-л-билади маканун ла садика бихи. То есть худшая из стран — место, где нет друга. Никогда не бросайся цитатами на языке, которого не знаешь.
— Так было в книге, — упрямо сказал Зон.
— Дела нет мне до твоих книг, а понты до добра не доведут. И денег я тебе не дам.
Зон вздохнул — Раевский был прав, он был чертовски прав, отдавать было не из чего — разве украсть рукопись Толстого из архива. Но это было из разряда другого предательства, это была измена делу, что хуже измены жене.
Он познакомился с Лейлой в музее.
Вернее, не в музее, а в парадном старинного особняка — направо была дорога в хранилище, где Зон копался в рукописях, а налево по коридору — ресторан, что держал известный скульптор.
Девушка, не заметив его, ударилась в плечо, чуть не упала — и на секунду оказалась у него в объятьях. Зону следовало покраснеть, пробормотать что-то неразборчивое и, пряча глаза, скрыться в своем архиве — но он почему-то не мог заставить себя отступить даже на шаг. Продолжал придерживать её за локоть — тонкий, как птичья косточка. Как будто бы имел на это право.
И она, словно бы почувствовав это его иллюзорное право, тоже взглянула на него и улыбнулась. За такую улыбку средневековый персидский поэт обещал своей возлюбленной целую гору жемчуга. Правда, Зон не мог поручиться, что поэт выполнил свое обещание.
Потом они пили кофе в ресторане и Зон сбивчиво рассказывал ей о своей работе. На следующий день он привёл её в святая святых — в железную комнату.
Двадцатисантиметровая дверь закрылась за ними, и тут же он понял, что должен сработать датчик пожарной сигнализации, — таким жаром обдало его. Она обвивалась вокруг Зона, не у неё — у него ослабели ноги.
Восток соединялся с Востоком, и Хаджи Мурат с портрета на стене — старой, ещё прижизненной иллюстрации — одобряюще смотрел на Зона.
Домой её везти было нельзя — и ещё через день она вошла в гараж, и через минуту он брал её в стоящей на приколе машине.
Было очень неудобно и ещё больше — стыдно за свою нищету. Стыдно до самого последнего момента, когда они рассоединились.
Лейла лежала, свернувшись калачиком, на заднем сиденье и гладила рукой чехол, смотря в потолок. Он, стряхнув пепел сигареты на пол гаража, придвинулся.
Глаза девушки светились счастьем.
Это было настоящее, неподдельное счастье — тут он не мог обмануться. Лейла была счастлива. Глаза её светились, и он перестал думать о том, что это существо из иного мира, и его битая машина, наверное, первое изделие советского автопрома, в котором она оказалась.