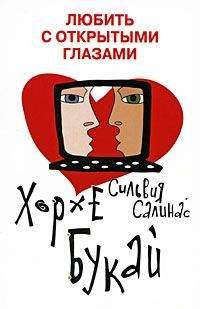Залыгин Сергей - К вопросу о бессмертии
Мы и не заметили, как научились заимствовать из своего прошлого опять-таки все худшее, что в нем было. И все-таки…
Все-таки как все мы воспряли, после того как заговорили с миром откровенно, на общечеловеческом, а не только на своем птичьем языке, полном то вопиющими умолчаниями, то поношениями, на котором и по сию пору пишутся романы клюквенно-информационного содержания. И тем не менее оказалось, что общечеловеческий язык нами отнюдь не утерян, что мы многое можем рассказать и объяснить миру, а он пусть не во всем, но готов понять и принять наше дело и как свое дело. Опыт существования любого народа — это ведь всегда опыт человечества, чем больше человек испытал и перенес, тем с большим интересом и сочувствием к нему относятся окружающие. Тут, кстати, надо заметить, что интерес к России издавна поддерживался еще и этим именно обстоятельством — выпавшими на ее долю испытаниями.
Вот здесь-то мы и оказались действительными провидцами, когда поверили в себя не в замкнутых, а в открытых, когда поверили в то, что человечество нас поймет не только как открытых, но и как достойных и необходимых жителей современного мира.
Социалистические идеи возникли задолго до социалистов, тем более задолго до капитализма, уже тогда, когда человек осознал себя существом общественным, обязанным и мыслить тоже общественно. Едва он понял, что у него есть будущее, он тут же увидел в материальном обогащении самого себя причину своей гибели, а в свободе, равенстве и братстве, хотя бы и относительных и не так, а как-то иначе сформулированных, — свое спасение и бессмертие.
Прежде чем появились социалистические учения, были сказки, мифы, утопии — вот откуда они пошли-то, эти учения, вот с каких пор люди мечтали об их воплощении в жизнь!
Другое дело — капитализм. Он был предусмотрен программой обогащения, но ждать-то его никто не ждал ни в практике, ни в теории, ни в религии. Никто о нем не мечтал, и в этом смысле он возник явочным порядком. Он пришел, огляделся: кто тут за равенство и братство? Кто за них в вековечном их понимании? Вот я вам покажу, что значит свободу любить, покажу кузькину мать! И показал! Показал, но пороха не выдумал — как начал с принципа обогащения, так и пробавляется им до сих пор. В самом себе он новых ценностей уже не найдет-, в чем-то другом не ищет — самоуверенность не позволяет. Паллиативы предложены им неплохие, но ведь и самый хороший паллиатив — это только он и ничто другое, принципов он не меняет. Принципы остаются прежние: священная необходимость врага, производство все нового и нового оружия, новые пещеры — те самые лаборатории, которые конструируют и усовершенствуют средства массового уничтожения людей. Куда и как из них выйдешь, если они дают до 2000 процентов прибыли в год? Куда и как?
Идеи нельзя заменить цивилизацией. А те социально-нравственные «хорошо» и «плохо», которые человек понял на заре своего общественного существования, но которые так и остались нереализованными до сих пор, должны быть реализованы или сейчас в течение очень краткого срока, или же им не быть никогда, потому что и самого-то человека уже не будет. Эти «хорошо» и «плохо» и запрограммировать нельзя, просчитать нельзя, узаконить нельзя, хоть умри.
Намерения такого рода не сейчас возникли: еще римское право пыталось ввести в законодательные параграфы такие универсальные понятия, как «добрая совесть» и «справедливость», но это не удавалось ни тогда, ни позже, они, эти понятия, заложены не в юриспруденции и не в науке вообще, тем более не в технике, а в том социальном устройстве, которое наиболее полно способно использовать духовный опыт человечества. Науке, а в частности юриспруденции, отводится при этом лишь роль охранителя этих высочайших понятий, а отчасти их толкователя, но никак не создателя и открывателя.
Природа человека, в общем-то, для науки недосягаема; подлинным учителем и толкователем ее у нас не был даже и Вернадский, но были Толстой и Достоевский. Общество, которое в большей степени сохраняет нынче этот духовный потенциал, эту энергию, обладает и большими перспективами в будущем. Даже если его настоящее или недавнее прошлое омрачено грубейшими нарушениями все тех же «хорошо» и «плохо», главных нравственных начал. Мы эти начала в значительной мере подорвали, должно быть, так. Но мы глубоко осознаем и переживаем эту потерю, а это значит — потеряно не все.
Россия, страна Толстого, Достоевского, прошла в XX веке страшную и страдальческую историю. Страдания не только убивают и калечат, страдания возвышают.
Революции — это в истории нового времени прежде всего революции социальные, и они европейское изобретение, творения прежде всего христианского сознания.
В сознании христианина жили и Христос и Антихрист. Христос был персонифицирован, Антихрист — в такой же степени — нет, но, в общем-то, дилемма существовала всегда, несмотря на то, что церковь никогда не хотела этого — она хотела единовластия над умами, хотела единолично владеть идеей бессмертия, быть ее единственным и непререкаемым носителем и вот всячески компрометировала Антихриста. Антихриста церковь, наверное, напрасно сделала своим врагом, поскольку ни одна религия опять-таки не существует без своего собственного врага и дьявола. Хуже другое — предавая дьявола проклятию, церковь тем самым отвергала и полемику с ним, свела ее к минимуму. Без полемики же, без активных оппонентов ни одна философия, в том числе и теология, существовать не может, она перерождается в догму.
Христианство, само возникшее из жесточайшей борьбы мнений и верований и столь тщательно заботящееся о сохранении собственной истории в памяти людей, именно об этой стороне дела постаралось забыть, и, таким образом, в догму было возведено само понятие бессмертия — и рода человеческого и христианского учения, — и все это в то время, как за образом Антихриста стояла гипотеза конца света, учение отнюдь не бессмысленное и отнюдь не безнравственное, скорее наоборот, поскольку предупреждение о грядущей катастрофе всегда нравственно.
Дальше: церковь не раз отождествляла Антихриста с социальной революцией, в то время как именно через революции человечество и обновлялось, отодвигало сроки конца света, если уж не всеобщего, так по крайней мере европейского. Что бы сейчас представляли собою Франция, Германия, Италия, Испания без своих революций?
Революции тоже отнюдь не обходились без оружия. Это так, но как могли они поступать иначе, если против них выступала вооруженная контрреволюция? Нельзя же принять на веру условие, по которому вооруженная контрреволюция — это естественно и это во благо, а вооруженная революция — это противоестественно и во зло?
Контрреволюции всегда были арсеналами вооружений и чем дальше, тем больше присваивали себе право владеть ими, а церковь, провозглашая мир на земле, этого права всерьез не оспаривала, полагая, что кровь пятнает только революции, но никак не контрреволюции. Итак, социальные революции и религии всегда располагались на разных полюсах, в самые же ответственные моменты истории они становились особенно яростными врагами, забывая даже и о том, что и те и другие в конечном счете стремятся к усовершенствованию мира, что это стремление неизбежно определяет и некоторое сходство между ними, не может не определять.
Революции тоже не обходились ни без веры, ни без фанатизма. И те и другие — явления массово-исторические. Революции объявляют себя категорией научной и объективной, а религии клеймят мракобесием. Религия действительно долгое время чуждалась науки, но времена меняются, и вот уже религия ищет союза с наукой, а наука проявляет интерес к этому сближению, задумывается над религиозными постулатами и кое-что объясняет религии в ней самой.
Не пора ли и революциям, если уж они так научны, через науку посмотреть на религии? Более терпимо?
Не пора ли и пастырям, религиям и революциям, где-то уже совершившимся, а где-то назревающим, а также и науке подумать о том, что все они, издавна спасая мир, саму идею бессмертия оставили неподготовленной к самозащите?
А между прочим, история уже на моей памяти однажды предоставляла людям шанс, только они не воспользовались этим шансом. Это было в 1917–1918 годы, когда на фронтах первой мировой войны началось братание солдат воюющих армий. Если хотя бы однажды армии пришли к миру через головы своих генералов и правительств, как это призывал сделать Ленин, если бы русские и немецкие революции победили тогда в этом своем главном, основополагающем и антивоенном смысле и значении, если бы имел место такого рода прецедент — мир изменился бы неузнаваемо и вряд ли появились бы условия для возникновения войны второй мировой. Но контрреволюция и тогда взяла верх, и скоро уже вторая оказалась неотвратимой, она была еще более жестокой, более бескомпромиссной, чем первая, и ни о каком братании речи уже не шло, зато оставшийся в полной сохранности милитаризм породил фашизм. А это до сих пор лежит ведь на чьей-то совести. Надо бы разобраться — на чьей?