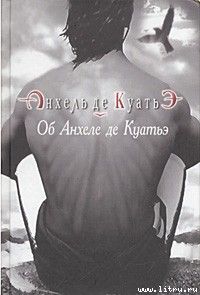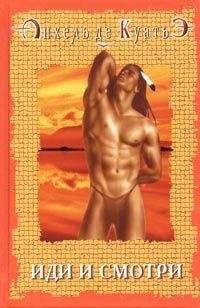Макс Гурин - Повесть о Микки-Маусе
— Микки! Микки! — закричало сердце моё бедное в Пустоту, — Что же делать мне, маленькому мальчику семи лет? Как мне теперь быть?
И он вдруг ответил мне:
— Эверест прав. Ты должен вернуть себе самого себя. До тех пор, пока ты не сделаешь этого, ты даже не можешь знать, чьи Пилоты пытаются управлять тобой, а до этих пор номер их вообще не может иметь значения, потому как нет ясного ответа, кого считать Номером Первым.
— Но зачем мне нужно смотреть в его снег?
— Глупый маленький мальчик… — довольно ласково сказал Микки-Маус, — Дело в том, что «его» снег — это… твой снег. А вообще… — он сделал маленькую паузу, — снег — это… женщина. Любая женщина — это снег… Ищите женщину… Значит, ищите снег!..
И он исчез. И Эверест исчез. И вообще как будто ничего этого не было.
Но я же помню, что всё это было!..
Я же помню! Помню! Я-то ведь помню, что всё это было! Ведь если этого не было, то о чем же тогда писать? А я ведь люблю писать! Мне скоро уже 39, а я всё ещё люблю писать! Хоть и всех пережил. Всех, кто хоть чего-либо стоил. И теперь я остался один. И вокруг меня нет никого, кто хоть чего-либо стоил. И вот для них для всех я и пишу. Пишу, потому что люблю писать, потому что писатель, потому что мне скоро уже 39, а я всё ещё что-то пишу. Пишу, потому что всё ещё кое-что помню. Помню, как было на самом деле.
— На самом деле или с твоей точки зрения? — спросил меня вдруг кто-то поверхностный, но усвоивший нехитрую науку задавать вопросы, которые кажутся умными людям ещё более поверхностным и глупым, чем они сами, то есть полному народному быдлу.
— Христос считал, что это одно и то же. Во всяком случае, в отношении себя самого… — вмешался в наш назревающий диспут Микки-Маус.
— Я спрашивало не тебя, а его! Когда спросят тебя, ты за всё и ответишь! — парировало Народное Быдло.
— Я и он — тоже одно и то же! — отвечал на это — мой, в данном случае, друг — Микки-Маус.
— Ну вы и сравнили! То Христос, а то — вы, два вежлика-распиздяя! — не унималось Быдло.
Тогда Микки-Маус вдруг неожиданно для всех вытащил револьвер и без лишних слов выстрелил Народному Быдлу в лоб…
Как обычно, не успев ничего понять, с развороченным и залитым кровью еблом, Быдло упало замертво в грязь…
— Пойдём! — сказал Микки-Маус и взял меня за руку, — Пойдём отсюда скорей, потому что мы только что совершили убийство. Конечно, мы были с тобой совершенно правы, содеяв это, поскольку Быдло вконец распоясалось, а иначе его не уймёшь… Но… пока о том, что мы были правы, знаем лишь мы одни.
— А Эверест не сможет в случае чего за нас заступиться? — спросил за меня Пилот № 5.
— Пока ты не вернёшь себе самого себя, нам никто помогать не станет. Можешь не сомневаться! Сейчас нам надо просто поскорей убраться отсюда, а то… — он опять лукаво ухмыльнулся, — а то у тебя не будет времени на поиски…
— Да, — попытался я возразить, с трудом преодолев чувство неловкости, — да, но ведь его убил ты…
— Будто ты не был этому рад! — воскликнул как будто с готовностью Микки, — я же ясно видел в твоих глазах полный восторг! Скажи ещё, что ты не рад этому!
— Ну-у, — вздохнул я, — рад конечно. Не будет впредь пиздеть попусту!
— Молодец! — похвалил Микки-Маус, — Теперь я вижу, что в тебе и впрямь течёт кровь первых еврейских царей!..
Я смущённо улыбнулся ему в ответ.
— Ну, давай-давай! — поторопил он, — Понеслись! Не забывай, что я — невидимый! Когда «они» придут, меня никто не увидит. Увидят только тебя… — он снова ухмыльнулся, — с револьвером в руках…
И мы понеслись…
— Ты говорил, что был счастлив целых три раза. А рассказал мне пока только об одном. — решил заговорить со мной Микки-Маус, видимо, чтобы не терять времени даром, пока мы «несёмся». Он ужасно не любил терять время зря.
— Оу-оу! — засмеялся, в свою очередь, я, — Уроборосу обрыдло жрать собственный хвостик? — сказал я и сразу засомневался, а оценит ли Микки-Маус такой панибратский пассаж и не увидит ли в нём, напротив, банального хамства вместо доверительности, существующей между близкими друзьями, в каковом качестве я и хотел впарить ему эту свою спорную в плане уместности сентенцию.
— Не выёбывайся… — просто ответил он, — Если хочешь рассказать мне об этом, не стоит стесняться собственной искренности и собственных же порывов. Ты вот часто стесняешься сказать говну, что оно — говно, и, сам посмотри, куда такая политика тебя завела; к твоим, как ты говоришь, 39-ти? — снова слукавил он.
— О чём ты? У меня всё, прости господи, в последнее время неплохо. — сказал я.
— Рассказывай об этом своей мамочке! — ласково пропел Микки-Маус.
Я задумался. С одной стороны, всю эту свою новую, то есть данную, прозу я для того, в глубине души, и затеял, чтобы самому себе рассказать о некоторых вещах, которые до сих пор меня мучают; о некоторых поступках некоторых людей, совершённых последними в отношении меня, каковых я, даже по прошествии множества лет, не могу ни понять, ни простить; о некоторых нанесённых мне обидах, которых я, как ни старался, так и не смог забыть, а в последнее время даже и перестал понимать, какого, извиняюсь, хуя я вообще уж прям должен такое забывать и прощать…
С другой же стороны, думалось мне во все мои 72 пилота, стоит ведь хоть раз признаться кому-нибудь в том, что у тебя не всё хорошо, как сразу же жди, что тебе немедленно предложат эту чёртову лапу помощи, но в ста из десяти случаев лишь затем, чтоб через эту вот принятую тобой помощь бесповоротно поработить тебя. Да хоть распните меня, я ещё никогда не видел, чтобы в этом уродливом мире хоть кто-либо не потребовал от кого-либо взамен на оказанную им ему помощь что-либо меньшее, чем целиком всю душу…
— Ишь какой! «Хоть распните меня!» Видали, куда метит-то всё, жидовская морда?!. — вмешалось в ход моих размышлений Народное Быдло.
— Микки! — вскричал кто-то во мне, — Как же это так? Ведь мы же только что убили его!
— Я не хотел тебя сразу расстраивать, — сказал Микки-Маус, — дело в том, что Быдло… бессмертно…
— Тогда выходит, что нам незачем скрываться! Выходит, мы зря летим!
— Нет. Вот это нет. Не зря. Поверь мне-э… — нараспев произнёс Микки-Маус, и от этого я вдруг против собственной воли уснул.
— Видишь, как хорошо, что у тебя наконец появилась возможность выспаться! — сказала Русалочка и нежно поцеловала Пилота № 11.
Он ничего не ответил ей. Сделал вид, что ещё не проснулся и, не отрывая глаз, перевернулся на другой бок в надежде, что так её губы не смогут достать до его лица.
— Это он напрасно! — шепнул мне на ухо Микки-Маус и ухмыльнулся, — Совершенства в мире нет. Сейчас посмотришь, что будет, — и он снова довольно гнусно хихикнул и щёлкнул хвостом, на сей раз без искр.
В это время Пилот № 11 как раз закончил переворот и уже искренне был уверен, что избежал нежелательного развития ситуации, как вдруг ещё ближе, чем в первый раз снова услышал: «Видишь, как хорошо, что у тебя наконец появилась возможность выспаться!»
— Это потому, что перевернувшись на другой бок, — снова горячо зашептал мне на ухо Микки, — он перестал быть Пилотом № 11, твой же, кстати, случай! То есть потерял самого себя и стал Пилотом № 12, а у того, как ты понимаешь, своя Русалочка!..
— Ты же говорил прежде, что вроде все 72 пилота — это и есть Я! — удивился я.
— Ну-ну!.. — засмеялся он, — Верь, верь и дальше красивым сказочкам!..
— Бам. Бам. Бам-бам. Бам-бам-бам… — откликнулось Пустое Ведро.
— Плюх! — село в лужу Народное Быдло, и всё его развороченное окровавленное ебало озарила тупая улыбка, с какой люди, более близкие скорее к животным, чем ко мне лично, умиляются какой-то полной хуйне в многосерийных бытовых своих мелодрамках.
— А почему совершенства-то нет? — успел крикнуть я стремительно удаляющемуся от меня Микки-Маусу.
— Потому что оно не нужно-о!.. — тихо прошелестел волосами на жопе пахучий Внутренний Ветер.
И увидел я сон, будто всё, что я прожил и, в той или иной мере, благополучно вроде бы пережил, после того момента, на самом деле, только пригрезилось мне, было фантомом, голограммой, компьютерной игрой, тяжёлым нелепым сном. Но когда там, во сне, я вдруг осознал всё это, то тот я, каким был я в том сне, попытался там же, во сне, осознать, с какого этого самого «того» момента и началась та самая, выразимся так, альтернативная история, которой на самом деле никогда не было наяву.
Сначала тому, каким был я в том сне, показалось, что это началось после того, как некогда в тёмном парке получил я пизды; потом он (который был мной в том сне, то есть я был там таким, как он) углубился далее, и на какое-то время «ему» стало казаться, что всё ненастоящее началось с того момента, как я впервые увидел Иру; потом я ещё углубился, и тому, кем я был в том сне, стало, на время же, кристально ясно, что последним реальным днём был день, когда я впервые встретил вовсе даже не Иру, а Милу; потом мы ещё углубились и вспомнили, как на шестилетнего меня свалился трёхлитровый бидон с кипятком, и нам показалось, что последним реальным днём было то злополучное 30-е июня 1979-го года. Но и это довольно быстро перестало восприниматься как Правда.