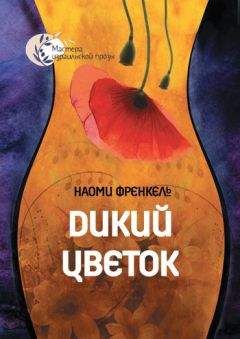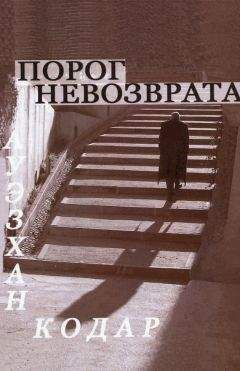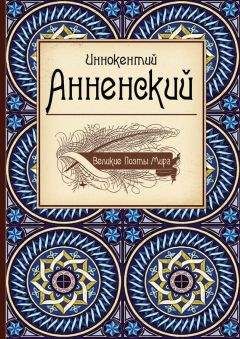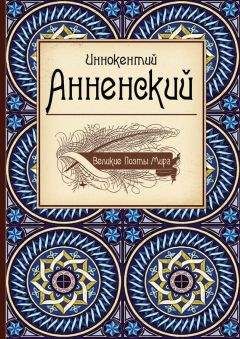Наоми Френкель - «...Ваш дядя и друг Соломон»
Внутри барака расставлены были в беспорядке столы и стулья. Справа, у стены, стоял небольшой квадратный столик с постоянно открытой шахматной доской и расставленными для игры фигурами. Над столиком висела картина с изображением луны, опирающейся на гору, нависающую над кибуцем. Лик луны словно бы говорил: «Жалко закатываться за гору».
Вдоль стены, под окнами, тянулись полки из необструганных досок. Все газеты, выходящие в стране, и значительная часть выходящих за границей лежали на этих полках. Полки тянулись до шкафа слева, в котором можно было найти словари и всевозможные лексиконы немецкого и польского языков. Тут же высилось пианино, которое привез член кибуца, репатриант из Германии Фриц Зелигсон, он же единственный, кто на нем играл. На пианино стоял гипсовый портрет кибуцника Шмуэля Перла, который погиб, перевернувшись с первым в кибуце трактором. Вылепил его Элимелех, друг Шмуэля. Луну также нарисовал Элимелех, украсивший своими работами немало стен в кибуце. Занавеси на окнах были сделаны из мешковины, на которой цветными нитками были вышиты узоры. Такова была мода в те дни в кибуцах. Муку привозили в белых мешках, и девушки затем вышивали на них узоры, вешали на окна, покрывали постели. А эти занавеси в доме культуры сделала Амалия, лучшая мастерица в кибуце по шитью и вязанью.
По весне гора покрывается цветами и зеленеющими кустами. Сильный ветер скользит с горы, врываясь во все уголки, в том числе и в читальный зал, раздувая занавеси, листая газеты, покрывая пылью столы, стулья, лица.
По вечерам, когда прохладный ветер обвевал наши лица, мы чаще всего играли в шахматы. Я был чемпионом кибуца. В год, с которого начинается рассказ, я был еще холост, обуреваем общественной деятельностью, но вечера посвящал шахматам. Все игроки обступали меня, чтобы по очереди сразиться со мной. Но ни один из них так и не преуспел, за исключением одного, вернее, одной. Это была Амалия, единственная женщина в кибуце, чуть не ставшая чемпионом по шахматам.
Она тоже еще ни с кем не связала свою судьбу, и это всех удивляло еще больше, чем ее способности в шахматах. В кибуце женщин было мало, а мужчин – навалом. Правда, уже тогда Амалия не отличалась красотой. На этот счет мужчины насмешничали: «Амалия не красива, но у нее прекрасная душа». Шлойме Гринблат, мой противник по сей день, всегда все знал, все слышал, и старался донести свои знания до каждого. Он уж побеспокоился, чтобы эти насмешки о «прекрасной душе» дошли до ушей Амалии. Конечно же, ее это оскорбляло до глубины души. Ведь она была еще молода, но две глубокие морщины возникали по обе стороны ее рта, когда она начинала смеяться, и смех ее был явно искусственным и горьким. Ноги у нее были слегка кривыми, естественно, от недоедания, а то и просто голодухи в детстве, в нищем польском местечке, где не было ни одного богача. Но когда она не улыбалась и не притворялась, а как бы сосредотачивалась в своей печали, удивительная одухотворенность освещала ее лицо, и свет этот шел из ее больших и глубоких темных глаз.
Эту одухотворенность я открыл в ней за шахматной партией в один из весенних вечеров, о котором и хочу рассказать.
Сидела она, печально сосредоточившись на фигурах, которые захватывали ее поле. Не знаю, что случилось. То ли повлияли на меня весенние запахи, ветерок с горы, касающийся ее лица, но неожиданно в душе я сравнил ее с Моной Лизой. И вдруг выпалил ей это в лицо. Амалия просто онемела. Никогда еще ни один мужчина не говорил ей комплименты… И вдруг, громы небесные!.. И не просто, а – Мона Лиза! Сравнение это просто вывело ее из равновесия, и нечего удивляться тому, что она изо всех сил старалась, чтобы весенние эти мысли меня не покинули. В тот вечер, за шахматной доской, она поведала мне об одном арабском шейхе, который увидел ее работающей в саду и сказал, что у нее походка верблюдицы, которая у арабов является символом красоты.
Этим ее рассказом завершилась шахматная партия. Амалия встала и пошла к выходу, а я поймал себя на том, что слежу за ее походкой, чего раньше за мной не наблюдалось. Она шла между столов и стульев, поднимала с пола сброшенные ветром газеты, вообще наводила порядок, и походка ее была такой же некрасивой, как и раньше, с явным припаданием в одну сторону и уравновешивающим движением руки – в другую. И я думал про себя: «Не понимаю этого араба. Как мог этот шейх сравнить ее походку с красотой движения верблюда. Ну, что ж, араб это араб».
Открыла Амалия дверь и растворилась в ароматах весенней ночи. Глаза мои были прикованы к опустевшему выходу в каком-то внезапном приступе одиночества. Я сбросил с доски все фигуры и не отпускал из горсти короля Амалии, внимательно поглядывая на него и не понимая, что со мной происходит. Странная тоска по Амалии словно бы растворилась в моей крови. Как человек, поймавший себя на преступлении, сердитым толчком я всунул ее короля в коробку. И вновь ощутил почти непереносимое одиночество своей души. И как бы очнулся: читальный зал был полон голосами, у пианино назревала драка.
«Это дело требует разбора. Его не удастся замять».
Шлойме Гринблат стоял у пианино, и рыжая его шевелюра пылала, как и произносимые им слова. Ноги его были расставлены, голова вобрана в узкие плечи, глазами он сверлил Звулуна. Когда Шлойме впадает в ярость, зеленые глаза его сверкают злыми искорками, пальцы сжимаются и разжимаются. Звулун же, высокий, с впалой грудью, большими очками в черной оправе, возвышался напротив Шлойме, спокойный и уверенный в себе.
«Ты откроешь завтра склад!» – кричал Шлойме.
«Нет», – отвечал Звулун.
«Это тебе даром не пройдет. Ты не будешь больше управляющим!»
«Поживем – увидим».
«Я сам открою склад с кормами. Сломаю замок!» – Шлойме размахивал руками перед носом Звулуна. У того руки были засунуты в карманы брюк и он повторял: «Поживем – увидим, – иногда меняя на: – увидим и поживем».
Вокруг толпились, забыв про газеты. Спокойным голосом Звулун пытался им объяснить причину спора: работающие в коровниках растратили весь жмых, отпущенный на месяц, и он, Звулун, не даст им разбазаривать дорогой корм.
«И вот, – указал Звулун худым и длинным своим пальцем на Шлойме, – они послали этого героя атаковать меня».
Я тут же в душе принял сторону Звулуна. Шлойме я всегда недолюбливал. Вообще не люблю требовательных скандалистов. Этот Шлойме, невысокого роста, с глазами, выскакивающими из орбит от ярости, и кулаками, бьющими себя в грудь, особенно меня раздражал.
«У тебя вообще нет права вмешиваться в дела с коровниками, – кричал он Звулуну, – управляющий складом не хозяин кибуца».
«Пока я заведующий, не будет разбазаривания корма. Невозможно терпеть всю эту вашу андрамалусию».
Звулун всего лишь год назад репатриировался из Польши, в иврите был слаб, чем и воспользовался Шлойме, чтобы еще больше унизить противника:
«Ну да, андрамалусия. Это все, что ты можешь сказать».
Раздался хохот, обезоруживший Звулуна похлеще криков Шлой «Так чего вы хотите, – вовсе обалдел Звулун, исказив поговорку «воды дошли до горла»: – в деле кормов «горло дошло до воды»».
Теперь уже вокруг хохотали во все горло. Шлойме, герой коровников, торжествовал, а одиночество и растерянность Звулуна ощущались во всей его долговязой фигуре. Я сидел у шахматного столика, думая о Звулуне: «Я люблю одиноких людей. Коллектив наш, всегда такой справедливый и прямодушный, нередко вгоняет людей в одиночество. Иные из них открыто бунтуют. Иногда ты чувствуешь в себе силу, когда у тебя вообще нет никакой поддержки». Я знал, что в основе этого самоистязания в душе моей таится чувство глубокой вины. Все эти сомнения я старался похоронить в душе, как вырывают страницы из дневника или стирают написанное. Все годы в кибуце меня сопровождали мысли о каком-то совершаемом мною грехе сомнения в коллективной форме жизни. Меня явно тянуло к жизни иной. Быть может, некий внутренний цензор приказывал мне вычеркивать «места и главы жизни целой», по выражению поэта, но чтобы никто не догадывался, что я, Соломон, активист кибуцного движения столько лет, мог даже позволить себе предаваться грешным этим мыслям.
Но это – истинная правда, что все время проживания в кибуце меня одолевали эти чуждые коллективу мысли. Я и сам себе не нравился и ощущал, что и другие, глядя на меня, видят, как говорится, что король гол. Потому и побаивался Шлойме, этого рыжего кота Шлойме, которого не посещают грешные такие мысли, и он любуется собой и с явным самодовольством считает, что именно он – пуп кибуца, его высший и земной суд. Страх перед Шлойме тлел во мне, пока на миг наши взгляды не скрестились. Я ворвался в круг хохочущих и встал лицом к лицу с Шлойме. Он тут же понял, что я рвусь в бой, и пустился в обычные свои уловки:
«Все говорили на смешном иврите, когда приехали в Израиль. И нечего смеяться над Звулуном, а надо смеяться над всеми нами. Вот, к примеру, Амалия. Что она только не вытворяла с языком. А мы ведь живем как бы в одной палатке. Вот, лишь вчера открыл новую палатку, а утром нашел мужика под кроватью и мужика на кровати».