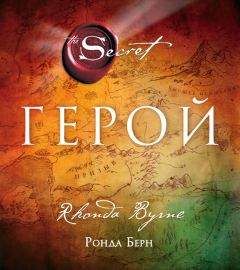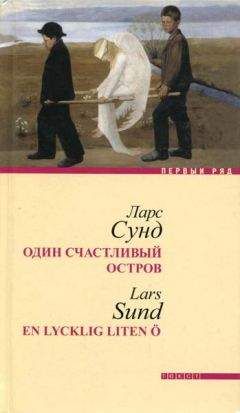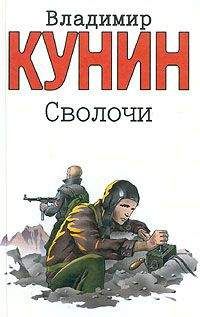Ларс Кристенсен - Цирк Кристенсена
Скоро прозвенит звонок с урока. Сейчас осень 1965-го. Октябрь — месяц мрачный. И неустойчивый. С утра было солнечно. А теперь опять начался дождь. Я думаю о картонной коробке на багажнике. Отсыреет она. Надо организовать новую, чтоб возить цветы. Я думаю о другом, чтобы не думать об этом. Не думаю о Путте, который небось замышляет враждебные козни. Думаю о той девочке, которая отморозила лицо, плавая ничком в Фрогнерхилене. Даже родители не могли узнать свою дочь, когда ее вытащили из воды. Ни с того ни с сего думаю о руках Авроры Штерн.
Учитель Халс протягивает мне историю литературы.
— Читай, — говорит он.
Именно этого я и боялся.
— Читай, — повторяет учитель Халс.
Я не выговариваю «р». Врожденный дефект. Мама водила меня к знаменитому логопеду на Нурстранде. Он втыкал мне в язык иголки. Без толку. Подкладывал под язычок деревянные щепочки. Тоже без толку. Два дня я лежал в Государственной больнице, с проводами, прикрепленными к голове, и полным ртом электричества. Но «р» по-прежнему не выговариваю. Некоторые твердят, будто я говорю как ребенок. Не устный я человек. Письменный по натуре. Одна буква во мне с дефектом. Я вроде пишущей машинки, у которой недостает одной клавиши.
Ладно, начинаю читать. Знаменитое стихотворение Сигбьёрна Обстфеллера «Гляжу». Читаю быстро, лишь бы разделаться, и с первыми строфами справляюсь вполне благополучно, во всяком случае, учитель Хале меня не прерывает, стоит с закрытыми глазами, и на лице у него написано наслаждение этими норвежскими стихами.
Гляжу я на белое небо,
Гляжу на сизые облака,
Гляжу на алое солнце.
Вот какова вселенная,
Вот каков дом земной.
А дальше — то самое. Искристая росинка. Ну при чем тут, скажите на милость, искристая росинка, если в третьей строке день, солнце, да еще и алое? Может, в стихах тоже октябрь? Я собираюсь с духом.
Искристая росинка!
И с разгону шпарю дальше:
Гляжу я на высокие дома.
Гляжу на тысячи окон,
Гляжу на далекие шпили церквей.
Но учитель Халс открыл глаза и поворачивается ко мне, одновременно поднимая левую руку:
— Как ты сказал?
Я без передышки продолжаю, будто совершенно уверен, что все пройдет, рано или поздно останется позади, да так оно и будет, только ведь это из другой оперы.
— Вот какова земля. Вот каков дом человеков.
Учитель Халс прерывает меня:
— Нет, нет, нет. Начни сначала!
И я начинаю сначала. Прикидываю, не перескочить ли попросту через эту искристую росинку, но разве перескочишь — учитель Халс сразу заметит. По мере приближения к злополучной строчке меня бросает в пот, вдобавок поэт снабдил ее восклицательным знаком, чтоб не было никаких сомнений: эти два слова должны стоять в стихотворении как столб, как свая; голос у меня дрожит, я на грани обморока, выкрикиваю строчку, словно это поможет, но получается только хуже: искристая росинка!
Учитель Халс качает головой, кладет руку мне на плечо и, стало быть, прерывает в третий раз. Многовато на протяжении одного стихотворения.
— Ты насмехаешься над стихами Обстфеллера? — спрашивает он.
— Нет, ни в коем случае.
— Тогда повтори за мной: искристая росинка! Громко и отчетливо, чтобы мы постарались не промочить ноги!
Я собираюсь с силами, и все равно безуспешно, получается, как всегда, еще хуже:
— Исклистая лосинка!
Учитель Халс наклоняется ближе, словно так лучше поймет:
— У тебя изрядный дефект речи.
Я на миг отворачиваюсь:
— Да.
— Поэтому ты такой тихоня?
— Да.
Учитель Халс поворачивает меня к себе:
— Вдохни поглубже и скажи: рододендрон!
Никакого рододендрона я в стихотворении Обстфеллера не вижу, там есть белое небо, алое солнце и высокие дома, есть нарядные господа, улыбающиеся дамы и смирные кони, но рододендрона нет и в помине. Учитель Халс не заставит меня сказать «рододендрон», коль скоро Обстфеллер такого не писал. Он мог бы написать «гляжу на увядший рододендрон». Но не написал. И я молчу.
Учитель Халс начинает терять терпение.
— Я жду, чтобы разносчик цветов сказал — рододендрон!
Как можно тише я говорю:
— Лододендло.
Класс более не в силах сдержаться. Смех выплескивается наружу. Путте хохочет громче всех. Даже учитель Халс невольно смеется.
— Эх ты, лододендло. Искренне надеюсь, что тебе не придется развозить клиентам лододендло!
Одного у учителя Халса, во всяком случае, не отнять: я запомнил «Гляжу» на всю жизнь. И когда два года спустя, осенью 1967-го, впервые услышал «Дорз» и Джим Моррисон пел «Strange days have found us, strange days have dragged us down», мне подумалось, что и он, и Сигбьёрн Обстфеллер были боязливыми астронавтами на одном космическом корабле и оба попали не на ту планету, чтобы рассказать об этом мне, только мне. Какое-никакое, а утешение.
— Лододендло, — не унимается учитель Халс.
Наконец прозвенел звонок, но впереди в этот день еще пять уроков, и еще целых два года мне предстоит учиться в этом окаянном классе и каждое утро изнывать от страха. Только мысль о фендеровском «Стратокастере» не давала мне совсем уж пасть духом, однако меня и гитару разделяла не только солидная сумма денег, но, как я уже говорил, еще и огромное количество времени, а если время — деньги (я в этом сомневался, хотя опровергнуть сей тезис не мог), то электрогитара никогда моей не станет. В мрачные минуты я именно так и думал. Я тоже был из экипажа заплутавшего космического корабля. Кстати, как-то раз я слышал радиопередачу про некое место в Новой Зеландии, расположенное так, что, когда там наступал понедельник, в Шиллебекке, например, еще было воскресенье, и Новый год они справляли задолго до всех остальных. То есть можно позвонить в Шиллебекк из того места в Новой Зеландии и рассказать, как обстоят дела завтра. А если кто-нибудь из тамошних обитателей отправится по той или иной причине в Шиллебекк, то приедет во вчерашний день. Уму непостижимо. Одни живут с опережением, другие — с отставанием, разве это справедливо? Меня чуть не до смерти напугало, что время не повсюду одинаково. Выходит, Бог оказался скверным часовщиком. И мир двигался неправильно. Каждый человек жил в собственном своем времени. Но по некотором размышлении я решил, что этот порядок не так уж и плох. Ведь я мог бы поехать в Новую Зеландию и таким манером сэкономить день или два и быстрее с этим покончить, тогда как новозеландцы, совершив поступок, о котором горько сожалели, могли бы рвануть в Шиллебекк и сделать свой поступок несостоявшимся.
Ты дождешься, сказал Путте.
А я колесил по адресам и скоро изучил все до одной улицы по эту сторону реки. Если я и попал не на ту планету, как Обстфеллер, то, по крайней мере, с городом не ошибся. Между прочим, обо мне шла молва. Я был самым шустрым цветочным курьером во всей столице. И однажды на Скуввейен меня остановил главный конкурент Самого Финсена, а именно Радоор, державший магазин неподалеку, на Риддерволлс-плас.
Он отвел меня в сторонку и спросил:
— Сколько тебе платит Финсен?
— Одну крону южнее Адамстюэ и полторы — западнее Скёйена.
Радоор положил руку мне на плечо:
— Могу предложить две кроны севернее Адамстюэ.
— Неплохо.
— Подумай.
Я подумал. И покатил обратно в финсеновскую «Флору», где меня уже поджидал Сам Финсен.
— Чего хотел Радоор?
Он, стало быть, видел нас.
— Ладоол?
— Радоор! Нечего придуриваться!
Я быстро раскинул мозгами и сказал:
— Он предложил мне две кроны пятьдесят эре севернее Адамстюэ.
От взвинченности Сам Финсен сломал три гвоздики. Госпожа Сам Финсен, которая за эту осень стала еще более плоской и теперь смахивала на треугольную голландскую марку, попыталась его унять. Но не тут-то было.
— Так бы и удавил этого Радоора! И честное слово, удавлю! Я взял тебя под крыло, горжусь тобой, паршивец неблагодарный, ты же толком не знал, где находится Дворец! Что ты ему ответил?
— Обещал подумать.
— Подумать? Хорош гусь! Шантажируешь меня, да? Может, еще и с профсоюзами связался, а?
— Да нет вроде.
Сам Финсен рухнул на стул, дрожащими руками свернул кривую сигарету. К счастью, разбираться с Радоором он не пошел, смертоубийство не состоялось. Он тяжело вздохнул:
— Мне без тебя не обойтись. Как насчет двух крон и десяти эре западнее Скёйена?
— Согласен. Спасибо.
— И ни слова Радоору! Я запрещаю любые контакты с недругами! Целиком и полностью! Понятно?
Я кивнул. А Сам Финсен долго качал головой:
— Господи Боже. Две кроны и пять эре!
— Десять эре, — поправил я.
— А? Ну да. Две кроны и десять эре. Так и так чистое разорение. Знаешь, как это называется?
— Нет.
— Свободная конкуренция. В выигрыше все. Кроме меня.