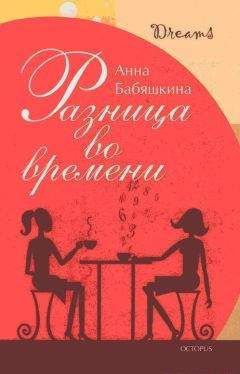Марианна Гейде - Бальзамины выжидают
Я пристально вглядывался в личико ближайшей. Всякое животное внушает подозрение: им всегда как будто чего-то не достаёт, самой малости, для того, чтобы обладать лицом, но что если это всего лишь иллюзия, возникающая с непривычки? Что если человеческая хвалёная особенность, позволяющая одного распознать среди тысячи, тоже не более чем иллюзия и вековая привычка? Я слежу за бледной её мимикой, расслабленной, как у больного, потерявшего способность управлять своей мускулатурой: раз вылепив его из вязкой кожи, отливающей мазутом, природа отошла от дел, предоставив трудиться волнам, которые сгладят черты, придав им шутливое подобие человеческих. Только опьянённый безумием разум мог бы приписать этим лоснящимся шматкам сала облик прекрасных сладкоголосых дев. Вот одна фыркнула и сощурилась, другая же, елозя ластами, удивительно быстро соскользнула в воду, словно засмущавшись. Голос гида, разъяснявшего особенности природного поведения мифологических существ, представлялся им, вероятно, каким-то нерасчленимым и бессмысленным гулом. Я провёл возле них добрые три четверти часа и ничего в них не понял, мне захотелось уйти, и я ушёл.
В 1998 году последняя сирена в Берлинском зоопарке скончалась от старости, не оставив потомства. Об этом писали в газетах, но в ту пору очередной финансовый кризис несколько развлёк людей и им стало не до исчезновения вымирающих видов. Тем не менее, иной раз мой взгляд останавливается на каком-нибудь мелькнувшем в толпе лице и — то ли это призрак помешательства, то ли простая усталость глаза, измученного ежедневным зрелищем сотен и сотен лиц, под конец сливающихся в нечто невразумительное, — но черты эти вдруг кажутся мне знакомыми и свидетельствуют о том, что родовое древо сирен пресеклось не вовсе.
Женщина из Музея Гигиены
Женщина из санкт-петербургского Музея Гигиены. Продукт естественной мумификации. Она не была свидетельницей в точном смысле этого слова. Откопанная на кладбище возле села с жутковатым названием «Мартышкино», она выступала навстречу посетителям из своего стеклянного хранилища с трудно передаваемым выражением брезгливости, какое бывает свойственно только уже очень давно мёртвым людям. Золотистые кружева её платья потускнели, однако сохранились несколько лучше тканей кожи. Прямое положение к лицу мертвецам и лунатикам: точно они прикидываются живыми или бодрствующими, и это внушает ужас и почтение. Эту даму легко можно было вообразить себе в метро или пытающуюся расплатиться в магазине истлевшими и вышедшими из употребления купюрами. Приподнятая на своём постаменте, она становилась почти вровень с живыми (смерть делает человека более компактным, слегка подсушенным, как будто бы он был его самого изображающей восковой фигурой. В детстве так и представлялось — будто человек каким-то образом исчезает и на его место помещают довольно точную, но плохо отображающую особенности выражения лица восковую фигуру. Так сказать, в порядке ритуала. Куда исчезают настоящие тела — об этом было неприятно и захватывающе поразмыслить. Возможно, их кто-то похищал, оставляя взамен копию-фальшивку. Копию полагалось целовать в лоб, и это было так же неестественно, как вообще дотрагиваться до незнакомых неживых предметов, однако, раз уж все так сговорились, то приходится). Женщине из Музея Гигиены вполне могло в какой-то момент прискучить находиться в своей витрине, точно она манекенщица, демонстрирующая двести лет назад вышедшие из моды одежды; тогда она переодевается в современное и ходит по улице, тонкая, сухая, как плеть, с подкрашенными веками, заходит, может быть, к кому-нибудь в гости, изъясняется жестами (голосовые связки давно ссохлись и разрушились, поэтому лицо её приобретает особую обезьянью выразительность, как это всегда происходит в дальних странах, язык которых нам не вполне знаком.) Все мёртвые разучиваются говорить на языке, точно впадают в глубокое детство. Их нужно учить всему заново: ходить, изъясняться, следовать правилам приличия. Они наивны и нечувствительны, так что запросто могут задеть или даже оскорбить. Но это они совершают не со зла, а по неведенью. Мёртвые требуют от живых бесконечного терпения: им всё нужно разжёвывать по несколько раз. Они лишены чувства юмора. Их с трудом удаётся рассмешить. Их невозможно переубедить. Из всех человеческих эмоций им доступны только самые нехитрые, из тех, что сближают нас с дикими животными. Возможно, смерть — просто неизбежный процесс одичания, как если бы человек вдруг освобождался из-под надзора себе подобных и приобретал повадки других предметов. Осваивал какую-то странную профессию. Женщина из
Музея Гигиены, ставшая экспонатам, обладала теперь новым смыслом, прежде ей не присущим, а лишь грезившимся: точно вырезанная из цельного куска мыла. Возможно, так развлекаются в заключении или в больнице, когда решительно нечем больше себя занять. Эти хитроумные поделки, шахматные фигуры в человеческий рост величиной, хранятся в громадных деревянных ящиках и в особых случаях извлекаются наружу для игры. По этому случаю им присваиваются имена когда-то живших людей. Но мы не станем обманываться случайным или умышленным сходством.
Странные создания Свифта
возможно, это и есть бессмертие
Странные создания Свифта. Практически лишённые памяти, постоянно испытывающие непереносимые физические страдания, бессмысленные и обречённые объекты. В какой-то момент они действительно стали появляться. Побочный продукт эволюции (говорили о них), трагическая ошибка природы.
Всё было не так просто (как предполагал о них Свифт). Обречённые на бессмертие не рождались с особой отметиной на челе, они были вовсе лишены специальных признаков, обличение которых сделало бы их существование невыносимым с самого начала. Всё было не так страшно. До поры до времени они могли позволить себе роскошь заблуждаться о собственном существовании, полагать себя такими же смертными, как и остальные, и требовать себе по этому поводу таких же привилегий. Ведь они смертны и из этого что-то следует. На (в среднем) сто сороковом году они (как предполагал о них Свифт), вслед за окружающими, понимают, что эта бодяга неспроста. На (в среднем) двухсотом году они проникаются уверенностью в том, что эта бодяга неспроста.
Те, к кому они были привязаны, умерли. Дети тех, к кому они были привязаны, к которым они были привязаны потому, что они напоминали тех, к кому они были привязаны, умерли. Дети детей тех, к кому они были привязаны, к которым они были привязаны потому, что это напоминало им о тех приятных ощущениях, которые вызывали в них те, к кому они были привязаны, умерли тоже. Даже очертания земной коры успели неуловимо измениться, что, пока ещё, внушает лишь смутные подозрения. Странные создания Свифта, на третьем столетии своего существования испытывающие потребность сбиваться в колонии, дабы сосуществовать с себе подобными, на четвёртом столетии устают друг от друга не меньше, чем от себя самих, и скрываются в норах. В глубоких, причудливо извивающихся норах. Ноздреватая от их прохождений земля устало принимает страдальцев в свою толщу как последнее прибежище.
Самое худшее, что таит в себе судьба странных созданий Свифта, это, пожалуй, то, что они всё-таки, в конечном итоге, смертны. Уже ничего не понимающих и не помнящих, покроет их корка льда, когда-нибудь, когда Солнце, по выражению одного из глав одного из государств, о котором к тому времени не останется и воспоминания, превратится в какого-то жёлтого карлика, почва перестанет производить плоды, недра её опустеют. Но даже они уже не смогут выступить свидетелями по этому делу. Не смогут выступить свидетелями по этому делу.
Город
Этот город похож на прекрасную молодую идиотку, развалившуюся на берегу, его шероховатая шкура потрескалась и истекает маленькими рыжими муравьями, он не способен к членораздельной речи, но постоянно лепечет сам с собой, о чём-то советуется, на что-то соглашается. Он набожен и весь увешан дутыми золочёными побрякушками, звенящими от ветра и по праздникам. Под окном похотливые мальвы жадно выворачивают рты, являя желтоватую мягкую гортань, как в Крыму, вдоль дороги цветут мясистые люпины, синие, розовые, фиолетовые.
Река узкая и мелкая, почти детская, только в том месте, где она впадает в озерную прорву, вдруг расширяется, чтобы исторгнуть в него кисловатую пахучую воду. В середине весны вспухает по краям и мерно рокочет: происходит сезонное спаривание лягушек. В уголках появляется крутая пена, как при эпилептическом припадке, лягушки, не разбирая своих и чужих, превращаются в кипящую массу целых и порванных тел, перекатываются друг через друга, щурят выпуклые золотистые зенки с узкими, плоскими, как надрез, зрачками. Потом на дороге вдоль берега всё красное.