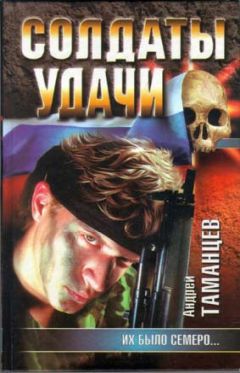Михаил Ардов - Триптих
Чего там только не написано!.. «Так какой же, — говорю, — он батюшка?» А отец Николай смеется: «Ну и счастливая ты на батюшек. То Киселев, да теперь этот. Ничего, — говорит, — все перемелется, мука будет». А он, Евдоким, из шести церквей ушел, самовольно, ни одну не сдал.
И все вот такто пил. Так и пропал он, ничего о нем больше не слыхать. Да… Церковь у нас в Дмитриевском не служит, и опять я без места А тут мне пришло письмо из Слизнева от отца Платона.
Одна наша певчая, Александра Васильевна, она десять лет тоже в тюрьме сидела, священника была жена, — она и к нам, и к ним в Слизнево ходила молиться. Вот она отцу Платону и сказала, что я без места И пошли мы с ней в Слизнево на Преображенье. Там тоже церковь хорошая, была я в ней, гляжу, во сне-то. Но только это еще тоже — не мой конец. Поступила я к ним.
Квартиру мне в сторожке дали. Отец Платон служил хорошо. Он раньше псаломщиком восемь годов был, а женился на протоиереевой дочке — отца Романа — Зинаиде Романовне. Они из Минска приехали. Матушка у него была очень хорошая, а уж теща Софья Михайловна — просто превосходный человек. Первое-то время мы с ним хорошо служили. По грибы да ягоды ходили.
А там белые только в двух местах растут. И он эти места знал. И вот я утром пораньше встану, побегу, оберу их. И лесом иду домой, а он уж после меня туда же дорогой идет. Он лесом не знал. А я-то лесовая бабушка Приду домой, чищу их. Он прибежит: «Опять все обрала?» Вот соберемся вместе по ягоды. Он нарядится в голубую трикотажную рубашку под поясок. А я уж — как баба-яга… Поглядит на меня: «Не пойду с тобой!» А я: «Так и я с тобой не пойду. Ты куда это вырядился?» Слава Тебе Господи, иду одна. Нет, догоняет. «Я так без ягод останусь!» А потом мы стали с матушкой Зинаидой ходить. Так два года мы с ним хорошо жили. А через два года он стал почему-то плохо ко мне относиться. Как чего не сделаю, все — неладно. Минею на клиросе придет исчеркает. Нехорошо у нас стало. Тут он и народу объявил, что псаломщик ему не подчиняется. Хотел он тут в Шестихино переехать, да его там не приняли. Даже квартиру не отперли, не показали. И в церковь не пустили. Ну, как говорится, не наше дело попов судить, на то черти есть — они рассудят. А мне тогда и говорят, что тут место есть, батюшка отец Иван просит прийти… Ну, отправилась я пешком на второй день Благовещения. Зашла к батюшке, он самовар разогревал. Только и спросил: «Гласы знаешь?» — «Знаю». — «Ну, запой». — «Который?» — «Да хоть какой-нибудь». Я ему запела. Вот и все. Повел меня на квартиру к Дуне, покойнице, сторожу церковному. Прихожу в церковь. Как глянула — потолок голубой, в окне поле видно — вот он, тут мой конец. Последнее мое место. Точно, как во сне… Потом я у старосты жила, у Александры Родионовны, тоже покойница И потрудилась я тут — церковь сторожила, печки топила, просфоры пекла, ремонты мы с Родионовной делали. Так у храма все и живу. Мне и в детстве все хотелось у церквы жить. Бывало, говорю: «Тятя, с Николы в церкви сторожа поряжать будут. Порядись. Вот Александр-то Широгоров там живет». — «Дура, — скажет, — у него одна корова, а у нас четыре коровы. Да куда мы с таким-то хозяйством?» — «Все, — говорю, — продадим. Больно мне у церквы жить хочется». А «Соломой» это меня ребятишки прозвали. Не могут сказать «псаломщица», не понимают, что такое. Вот и вышло у них — «баба-солома». А только подумать, сколько я мытарств прошла — и тюрьму, и все, не знаю, как и прошла. Помаленьку-то и прошла… Я ведь и в лагере на них не обижалась, что вины у меня нет. Вины нет, так грехи есть — за них страдаешь. А в тюрьме я все придурком была, и мной не распоряжались. Хотя работы у меня было много. А по мне хоть и сейчас пусть опять заберут, я не боюсь. Только вот жить-то мне осталось полтора понедельника. На похороны у меня есть деньги. В церковь на помин — сто шестьдесят рублей. Сто рублей — батюшке, какой меня отпевать будет. Гроб мне надо некрашеный. Музыки мне — упаси Бог! — ихней не надо…
Пьяницы эти марш играют, а бесы пляшут, радуются. Тпфу! И ограды мне на могилу не надо, надо только крест деревянный. Лишь бы отпели, а там хоть в болото пусть кладут… Я никому не завидую. Мне еще отец Асинкрит, Царствие ему небесное, говорил: «Бог тебе богатство дал.
Господь тебе знание дал, разумение и голос. И должна ты благодарить Господа». Я и вправду богаче всех. Кусок хлеба у меня до смерти, и одежды — не сносить. Еще после моей смерти жечь придется. А что старые платья, наплевать. Все проехало уж теперь. Не Абрам и смотрит, не Макар любуется, не Захар интересуется. Мне теперь какие женихи? Надо ждать жениха Лопатина, Могилевской губернии из села Гробовщиков. Этот — всех берет. Так что богатства у меня — через борта. Плохо только, покаяния настоящего нет. Как бы надо идти к покаянию, не так, как мы, грешные, каемся. Такого покаяния нет. А службу я без ума люблю.
Горинское, октябрь — декабрь 1980 г.
НАША ШУРА
В сорок первом году, в октябре шла я из заключения на Вологду, в Пошехонский район.
Женька у меня еще грудной был, а Колю своего я три года не видела — с самого ареста.
Прихожу в Кузьминское, и вот идет мой Коля мне навстречу по деревне — шубейка маленькая, обтрепанная, идет и поет во всю головушку:
Милая моя, на кого похожа, — ух!
У тя куричьи глаза, петушечья рожа, — ух!
Хорошо тебе, товарищ, тебя матка родила, — ух!
А меня — чужая тетка, матка в лагере сгнила, — ух!
Ему кричат: «Коля! Мать идет!» А он: «Какая мать? Мама-то, я знаю, какая была. Мама была в белом платье и бегала люто. Как вон теленок. Никому ее было не догнать.
Как за хвост теленка схватит, так он и падает». (Это еще до ареста было. Теленок у нас все сосал корову. А я его догнала, как за хвост дерну, он и повалится. Вот это ему и далось, это он и запомнил. Все говорил: «Мама бегала люто»). А как меня арестовали, он у меня посреди полу остался.
Трехгодовалый. И целый год не знала, где он и есть. Я из заключения все писала, да мне никто не ответил. А мне тут посоветовали: «Напиши в районную милицию». Через две недели мне и пришло: его батька взял. Уж он вторично тогда женился, так и жил в Телепшине… Я ведь сама-то как замуж вышла. Меня там все в сельсовет таскали и говорят «Выходи замуж, да и будешь жить. Тогда тебя не арестуют. Ты уж будешь тогда не лишенка, не монашина». А жила я на квартире у тетки Феклы, а Иван-то через дорогу, напротив. Он и моложе-то меня был. Они меня всей семьей ходили уговаривать. Немного мы с ним нажили. Да и не венчались, так что я его и за мужа не считаю… У них семья эдакая — ни одного дня нет, чтобы у них без скандалу. Как Коля у меня народился, так я вскоре и ушла от них. Тут уж я Бога стала молить: «Выведи, Господи, меня из Телепшина. Хоть через тюрьму, а выведи…» Ладно-хорошо… Так что после ареста моего Колю батька с мачехой забрали. А держали они его худо, голодовка была… Колюто в Телепшине знали. Вот он трехгодовалый придет да встанет у магазина Ему и дают. Говорят «Это ведь Шурин паренек». Надают ему денег на буханку. Купят ему буханку. А батька уже стережет: «Пойдем домой!» Хлеб-то у него дома и отберут. Потом это все узнали.
Стали Марии Павловне давать денег, пекарке. И ему сказали: «Ты ходи есть к тете Мане. Она тебя будет кормить». Ему четыре года не было, он от отца пошел в Вологду — за десять километров — к крестной, к Марии, к товарке моей. Его вернули, а потом так и отправили к ней.
Петро Кузьмич его привез зимой — да без валенок. Ноги половиком завернуты. А мои чесанки новые так у них и остались. Не отдала мачеха Они все забрали. У меня ведь остался парнишка — восемь рубах у него было. Они все своих маленьких одевали. Пришел — только шубенка на нем. Я по этой шубе его и узнала. Я ведь шила ее сама Вся уж истрепалась — три года носил. Он у них и на постели не спал. На лавку постелют половик — ложись тут. А в Кузьминском они с Марией, с крестной, жили у председателя Розина. У него низовка была, первый этаж — вот там и жили. И я с Женькой туда пришла. Я пришла, а у Марии моей тоже уж ничего моего нет. И рубашки у меня нет — с дороги надеть. Выпарилась в печке, пришлось кофту с юбкой так надеть. А Мария говорит «Все твое украли». — «Какие воры, — говорю, — интересные были. Все мое украли, а твоего ничего не тронули?» А Коля-то как ни мал был, а помнит. «А вот, — скажет, — это мамин ведь был платок. Теплый-то, новый-то, серый-то». И тут же опять Марии шепнет: «Ты тетке-то не давай». А ее спрашиваю: «А шаль-то моя жива ли?» У меня шаль новая, хорошая, пуховая была Мы с ней обе по шали купили. «Ой, — говорит, — я ведь твою шаль заложила за пуд муки». — «А зачем же ты закладывала? Ведь ты после меня восемнадцать пудов хлеба получила? Я ведь тебе из заключения доверенность посылала». (У меня заработано было. Я в заготскоте косила овес.) А она «Так я твой хлеб по займам раздала». А про шаль врет, это она племянке своей отдала А тут опять Коля: «Крестная, а еще два маминых полотенца у тети Опроси». — «Ой, — говорит, — дурачок. Я ведь тоже заложила За муку». Да… За муку заложила, а парнишку по миру водила А Коля — ему седьмой год — никак меня не признает. Уж я тут и одела его, сшила ему рубашку хорошую, а штанишки, башмаки купила Всю деревню обошел — хвастался обновами. «Да кто же это тебе справил, Коля? Мать?» — «Какая мать?!