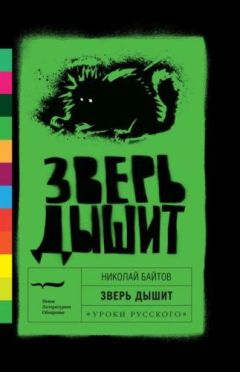Дидье Ковелер - Явление
– Pronto?[3]
Мне кажется, я узнаю его сиплый голос.
– Это профессор Кренц. Я не разбудила вас?
– Только не ночью. Чем могу быть вам полезен?
– Я принимаю ваше предложение.
– По каким причинам?
Ответные слова так и застревают у меня в горле. В его голосе я улавливаю почти что осуждение – во всяком случае, недоверие. Я воздерживаюсь от ответа: вопли соседского ребенка, глаукома топ-модели, воскресный обед и вранье любимого человека. Поэтому лишь роняю:
– Вы взяли трубку, монсеньор.
– Простите?
– Если бы вы не взяли трубку, я бы отказалась.
На другом конце провода воцаряется молчание. Через несколько секунд ледяной голос кардинала Фабиани отчеканивает:
– Вы хотите сказать, что причиной явилась случайность?
– Ну и любопытство…
– Этого недостаточно, – обрывает он меня. – Я ожидаю от вас полной отдачи, глубокого анализа, сомнений, чувства неприятия, ярости. Если вы на это не способны, я обращусь к другому специалисту. Прочтите двадцать восьмую страницу только что полученного вами перевода, и если не ощутите себя причастной, осмеянной в ваших убеждениях, то перешлите мне обратно командировочное предписание.
Он вешает трубку. В полном недоумении я вынимаю распечатанные листы из лотка принтера. На двадцать восьмой странице описаны два якобы имевших место чуда, заявленных на канонизацию Хуана Диего. Не успеваю я дочитать до конца историю первого случая, как уже приведена в желаемое адвокатом дьявола состояние.
Маленький мальчик отправляется на рыбалку. Неудачно закидывает удочку, и рыболовный крючок попадает ему прямо в глаз. Мать тотчас отводит его к известному окулисту, но тот заявляет, что в данном случае медицина бессильна: глаз безвозвратно потерян. Не помня себя от горя, она бежит в собор Гваделупской Богоматери и взывает к плащу: «О Хуан Диего, которого собираются провозгласить святым, умоляю тебя, помоги моему мальчику!» Затем отводит ребенка к еще более известному офтальмологу и просит его все же попытаться провести операцию. Профессор осматривает ребенка и объявляет, что не может взять в толк, зачем она обратилась к нему: операция уже проведена, причем чрезвычайно успешно: шрам – просто произведение искусства.
Через три дня шрам полностью рассосался, и мальчик вновь видел обоими глазами. К этому заключению прилагаются около двадцати свидетельств различных медиков, клянущихся своей честью, что операции, заранее обреченной на неудачу, не было вообще.
* * *Я пытаюсь пробиться в твои мысли, пока ты пьешь виски и любуешься на облака, пролетая над морем, но маленькие голубые таблетки отвлекают твое внимание, мешают тебе услышать мой голос, пытающийся предостеречь. Тебе не грозит неминуемая опасность и мне неизвестно будущее; я могу улавливать лишь исходящие от тебя же, сокрытые в твоем подсознании предчувствия и предупреждения, которым ты, к сожалению, уделяешь так мало внимания.
Суждено ли тебе, милая Натали, прежде чем твоя душа отделится от тела, понять, насколько живые осведомлены лучше мертвецов? Мы можем ориентироваться в вашем пространстве, вашем времени, вашем мире лишь посредством ваших же предчувствий, смешивающихся в вашем сознании с вашими импульсами, выдумками и воспоминаниями. Вы наш запас будущего, если, конечно, эти временные разграничения вообще имеют смысл, то есть когда мы пытаемся настроиться с вами на одну волну. Если мы так часто и наведываемся в ваши сны, то потому, что таким образом получаем доступ к чердаку, где хранится все то, что мы потеряли, и мы подпитываемся тем, чем вы пренебрегаете, пытаясь поделиться этим с вами.
Я говорю «мы», но это лишь условность: я все еще не теряю надежды вырваться из своего одиночества. Со дня моей кончины, Бог мне в том свидетель, я так и не смог войти в контакт с душами других умерших, которых, как и меня, молитвы толпы удерживают на земле. МарияЛучия ни разу не дала о себе знать. Что до остальных отражений, рядом с которыми я обитаю в глазах Девы, жизни в них не больше, чем в лицах, увековеченных на ваших фотографиях. Даже епископ Мехико, в слезах стоящий передо мной на коленях, этот причащавший меня трижды в неделю Сумаррага, рядом с которым я провел семнадцать лет и которого лицезрел каждое утро, не более чем пустое отражение. Уйдя из жизни через несколько дней после меня, он ни разу не подал признаков жизни, ни разу не навестил меня в моем преддверии рая. Попав, несомненно, прямиком на небеса, через «служебные» врата, он потерял интерес к участи, которой я ему обязан.
Как бы там ни было, Натали, на данный момент нить между нами настолько тонка, что позволяет мне общаться с тобой лишь через это компьютерное вторжение, на которое ты так болезненно отреагировала. И я очень огорчен этим. Я бы хотел предостеречь тебя от черных мыслей, проецируемых тобой и поджидающих тебя здесь. Я так нуждаюсь в тебе, в полном владении твоим умом, твоими природными барьерами, твоей энергией, твоими знаниями. Мне бы не хотелось, чтобы ты приехала на встречу со мной ослабевшей. Но, может быть, так и надо? Пути Господни, мне это известно лучше, чем кому бы то ни было, подчас так же извилисты и скверно вымощены, как и иногда подменяющий их случай.
И вот уже смутно напоминающий меня силуэт обретает в твоем сознании очертания, пока ты дремлешь, укачанная быстрым бегом облаков, скользящих за иллюминатором. Занятно, что я кажусь тебе таким молодым… Знаешь, ведь мне было уже пятьдесят семь лет, милая сестричка из потустороннего мира, когда провидение на мою беду обрушилось на меня. И только в семьдесят четыре года я наконец отдал Богу душу, хотя в моем случае данное выражение не имеет, увы, никакого смысла.
Но ничто на протяжении всей моей долгой жизни не смогло изменить моей природы: тихий, ровного нрава, упорный и преданный ребенок, каким я был, продолжал жить, не изменяя своим детским привычкам, в том набожном старике, которого осаждали толпы больных и нищих. В этом свидетеле поневоле, обладателе чудесной тильмы, орудии божественной воли, «человеке Девы», которого поселили в богатых покоях, кормили досыта, по воскресеньям выносили на всеобщее обозрение, словно святые дары, и который приветствовал взывающую к нему толпу скорее с выражением покорности судьбе, нежели с высокомерием… Благодаря ниспосланной мне глухоте, хоть сколько-то скрасившей последние годы моей жизни, все возносимые мне почести происходили при моем полном неведении; к несчастью, теперь все вернулось на круги своя: после смерти я вновь обрел слух и теперь мужественно переношу миллионы молитв, на которые у меня нет возможности ответить.
Я так и не узнал, почему Пресвятая Дева держит меня узником в своих глазах, зато я знаю, чего ожидаю от тебя, Натали, на что надеюсь и чего опасаюсь. Вполне возможно, что встреча со мной причинит тебе боль. И не знаю, пойдет ли тебе это на пользу. Но лишь ты властна освободить меня; мне так нужно верить в это.
* * *Похоже, в мире осталась только одна авиакомпания, не запрещающая курить на борту своих самолетов; и надо же было мне попасть именно на ее рейс. Спустившись с трапа первой, со страшной мигренью, горящим горлом и невероятным жжением в желудке после специй «Аэромексико», я уже минут пять топчусь за желтой линией, ожидая, пока четверо полицейских соблаговолят открыть свои будки. Когда они наконец заканчивают свое копошение и один из них знаком подзывает меня, ему хватает беглого взгляда на мой паспорт, чтобы машинальным жестом, каким обычно отгоняют назойливого комара, отослать меня обратно. Я тщетно пытаюсь возразить; он вызывает накачанную силиконом даму и приказывает мне вернуться на прежнее место. Провожаемая равнодушными взглядами остальных пассажиров, у которых, видимо, с документами все в порядке, я вновь пробираюсь по лабиринту железных ограждений, табличка над которыми гласит «Мехиканос». Ее-то я и не заметила и на приоритет бизнес-класса надеялась зря: я оказываюсь в конце вереницы из полусотни угрюмых истуканов, нахлынувших, пока я мешкала, к единственному окошечку, предназначенному для пропуска иностранцев.
Когда наконец приходит мой черед предстать перед находящимся в полубессознательном состоянии таможенником с зеленоватым лицом, жующим колпачок от ручки, я, схватившись за голову, выношу неторопливые вопросы, значение которых безуспешно пытаюсь понять с помощью моего карманного словарика, в то время как он привередливо рассматривает все выданные мне за последние десять лет визы. Внезапно, без видимых причин, он решает, что я вовсе не подозрительная личность; мощным сотрясающим все вокруг ударом штампует мой паспорт и, глядя исподлобья, возвращает его мне, облизывая пересохшие губы. Я уже чувствую, что возненавижу эту страну.
В зале выдачи багажа мне уготовлен следующий приятный сюрприз: мой клеенчатый чемодан, который я до отказа набила бутылками с минеральной водой и герметичными упаковками с биопродуктами, дабы оградить себя от дегустации местной кухни, беспомощно валяется на ленточном конвейере, распоротый, с продырявленными бутылками и искромсанными упаковками, посыпанными ломтиками моркови и рисинками. Я загружаю остатки того, что ранее было моим чемоданом, на тележку, преисполненная решимости, направляюсь к таможенному контролю для выявления виновника этого погрома. И меня же и задерживают. Два здоровяка хватают меня под руки, пока третий что-то орет мне прямо в лицо, тыча пальцем под подбородок. Я по-английски осведомляюсь, что происходит, а он продолжает еще громче вопить на испанском, как будто, если он повысит голос, я смогу лучше понять.