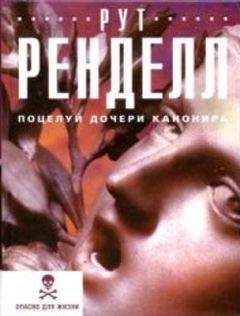Ромен Гари - Цвета дня
Он допил кофе и, довольно вздохнув, поставил чашку.
Глаза, разумеется, никогда не стареют, однако это лишь усугубляет положение. Ничто порой не смущает молодого человека так, как пойманный на себе женский взгляд, один из тех, что пылают молодостью и мечтой, но тут же обнаружить вокруг глаз лишь карикатуру на то, что они, казалось бы, обещают.
Вилли затянулся и тихо выдохнул дым.
На щеках после еды станет выступать та краснота, что так плохо скрывается пудрой, которой их тут же начнут щедро покрывать, а ноги — да, ноги, — он на какое-то время задумался, стараясь вспомнить, — так вот, ноги, по-прежнему сохраняя свой породистый вид, никуда уже не будут вести и, вместо того чтобы тянуться вверх, будут все больше опускаться к земле. Вилли хорошо разбирался в этом вопросе: в начале карьеры у него была, как он ее называл, «очень хорошая дружба» с одной зрелой голливудской дамой, которая уже в возрасте двенадцати лет добилась главы и богатства как восхитительный чудо-ребенок экрана. В ту пору, когда он встретил ее, это была маленькая пухленькая женщина; в сорок восемь лет она сохранила свои детские локоны, а лицо ее приобрело тот кукольный и в то же время морщинистый вид, который так хорошо сочетается с любовью к пекинесам и сластям. Вилли страстно ненавидел эту женщину из-за ее локонов, но особенно, быть может, из-за того, что она сохранила неодолимую тоску по любви чистой и бесплотной, которая усиливалась по мере того, как она старела; так что на пороге пятидесятилетия она начала по-настоящему верить в прекрасного принца, делая из вечной молодости сердца нечто вроде влюбленного мяуканья дряхлости; много раз Вилли в грубой форме предлагал ей физиологические услуги, — естественно, только так можно было бы избежать непристойности. Но она ни за что не хотела этого, довольствуясь тем, что на детском языке шептала ему слова любви, отчего ему делалось худо; свое отвращение и возмущение он скрывал под одной из тех улыбок, о которых журналисты говорили, что, они, похоже, вытерпели все. Он уже серьезно подумывал о том, чтобы прибегнуть к эвтаназии, когда эффект разорвавшейся бомбы, произведенный его первым фильмом, избавил его от этого. И вот он — великий знаток — разглядывал лицо Энн, не зная даже, то ли он испытывает такое острое наслаждение от своей сигары, то ли от того, что заглядывает в то восхитительное будущее. Следовало, однако, признать, что до этого было еще далеко. Десять лет как минимум, быть может, чуть больше, подумал он, молящим обшаривая это лицо в поисках морщинки, начинающейся одутловатости, седого волоска. Шея особенно отличалась несравненной чистотой линий, а то место под подбородком, с которого начинают стареть женщины, обладало всей грацией и свежестью ветки сирени. Это было совершенно отвратительно. Вилли почувствовал комок в горле. Абсолютно непристойная, вызывающая шея, в которой разом уместилось все что ни есть хрупкого на земле, смехотворная шея, при взгляде на которую у вас словно отнимались руки. Каштановые волосы — банальное сочетание света и тени, — довольно безучастные, за исключением тех моментов, когда к ним прикасались. Глаза того светло-коричневого и как бы прозрачного оттенка, который напоминал Вилли сверкание осенних листьев в аллеях парка, где он провел свое детство. Все его предки были садовниками у графов д'Ильри в Турени; его отец умер с горя, проклиная Вилли, когда тот объявил ему о своем намерении эмигрировать в Америку; парка больше не было, теперь его превратили в картофельное поле, и Вилли помог последнему из графов д'Ильри обосноваться в Америке, где тот имел… где тот занимался… в общем, где он давал уроки верховой езды. Он частенько вот так выдумывал себе целые несуразные биографии. Поговаривали, что он немного с приветом. На пороге сорокалетия у него было лицо подростка, который, казалось, никогда не постареет. «Наверно, что-то с железами, — охотно объяснял он друзьям, — разновидность кретинизма». Через всю столовую он бросил долгий взгляд на огромное зеркало, целиком закрывавшее стену. «С серьгой в ухе и хорошим гримом я бы ничем не отличался от берберского пирата. Это то, что есть во мне от Отелло. Забавно, что никто на студии до этого так и не додумался». Кровь, что текла в его жилах, была на четверть негритянской, и он это тщательно скрывал. Волосы слегка вились, а черты лица отличались некой округлостью — как бы воспоминание об африканских масках, — но никто об этом не догадывался. Вероятно, именно этим можно было объяснить его мифоманию: потребность постоянно что-то прятать, путать следы. Впрочем, никакой негритянской крови в нем, конечно же, не было, это он тоже выдумал. Он вынул изо рта сигару.
— Вы и правда не хотите провести день-другой в Париже, дорогая? Смешно уезжать без весеннего туалета в самый разгар показа коллекций. Не так ли, Гарантье?
Через застекленную дверь Гарантье наблюдал за чайками, которые метались над пляжем; он старался забыть, что перед ним живые существа, и видел в них лишь движущиеся геометрические знаки, серо-белые, сравнимые с мобилями Колдера[6].
— Я бы лучше задержалась на несколько дней здесь, — сказала Энн. — Я ничего не видела, кроме студии.
— Знаю, дорогая. Это весьма, весьма заманчиво. Но в понедельник у вас начинаются съемки. Мы еще вернемся сюда.
Энн вышла за него замуж из-за своего отца, хотя и не осознавала это ясно в момент принятия решения. Но она всю жизнь прожила рядом с человеком, которого несчастливая любовь ожесточила сверх всякой меры, до такой степени, что все, что волновало сердце, стало в конце концов казаться ему чем-то омерзительным. Постоянно видя перед собой этот призрак, Энн в восемнадцать лет приняла торжественное, окончательное и абсолютно необратимое решение никогда не иметь никаких дел с любовью — ни вблизи, ни издали. Правда, уже в то время она испытывала крайне невнятное, не поддающееся определению влечение, однако довольствовалась тем, что пошла на курсы драматического искусства, приняв за призвание это смутное, поселившееся в ней ощущение отсутствия чего-то важного. С самого начала она предупредила Вилли: любить она неспособна, их союз может быть лишь творческим партнерством, она намеревается целиком посвятить себя искусству, ничто другое ее не интересует; и Вилли, который где-то уже слышал нечто подобное, с серьезным видом согласился, с трудом удерживаясь от желания поцеловать эту девчушку в берете, туфлях без каблуков и с не по возрасту серьезными глазами. Добиваясь для нее главных ролей, навязывая ее продюсерам, он проявил такую страсть и ловкость, что меньше чем за два года она стала звездой, но это поссорило его с прежними протеже, к которым он потерял всякий интерес. В то же время он привязал ее к себе нерасторжимыми контрактами, цифрами, подписями и столь тщательно проработанными сделками, что брак в конечном счете показался ей всего лишь очередной подписью на документе, где на сей раз помимо даты не фигурировало никакой другой цифры. Накануне церемонии она отправилась в Нью-Йорк повидаться с отцом; тот принял ее со всей обходительностью, обычной в отношении человека, которого довольно плохо знаешь и не жаждешь узнать получше. Стоял погожий сентябрьский день, и он заставил ее любоваться арабесками, которые вычерчивало солнце, отражаясь в стеклянных ящиках с кактусами и на белой, абсолютной голой стене комнаты. «Я очень люблю стекло, — сказал он ей, — за его прозрачность и за то, что оно никогда не бывает назойливым. Впрочем, приятно, когда тебя окружают предметы, ничего не задерживающие и позволяющие просто пройти сквозь себя.
В этом есть бесспорный урок мудрости. Но всего забавнее видеть порой, как кусок хрусталя принимается внезапно сверкать сотней ярких цветов — красных, синих, желтых, фиолетовых, — да, забавно смотреть на хрусталь, у которого тоже бывают свои моменты слабости, страсти. Что иногда вызывает во мне легкое чувство превосходства». Он прошел на кухню, чтобы приготовить чай, поспешно оставив ее одну. Она осталась сидеть с закрытыми глазами в этой пустоте, где даже не тикали часы — Гарантье питал отвращение ко всему, что бывает назойливым. Возможно ли, чтобы одиночество, достигнув определенной степени интенсивности, не перешло в свою противоположность, возможно ли, чтобы одиночество так и не состоялось, а ведь о чем больше когда-либо молил человек любовь — только об одиночестве. Есть такие, кто верит в чудо, и они живут молитвой, есть такие, кто верит в любовь, и вот они-то живут одиночеством. Жена Гарантье бросила его спустя полгода после рождения Энн, она убежала с мексиканским тореадором, с которым была знакома лишь двое суток, и так никогда и не вернулась. В этом внезапном бегстве Энн находила сегодня самое веское основание для своих надежд. Двое суток, не раз повторяла она про себя в минуты сомнений, это произошло за двое суток, и каждая минута становилась для нее соучастницей, дружеским подмигиванием. Страдание отца — которое внешне выдавало себя лишь этим нарочитым, выставленным напоказ отсутствием человеческих чувств, — крушение его жизни сегодня она уже объясняла не жестокостью женщины, а тем неотвратимым ударом, который нанесла ему подлинность. Это было нечто абсолютно безупречное. Страдание того, кто за этим стоял, бремя той жизни, что он продолжал нести, — все это вполне законно могло считаться чувством, однако любовь становится человеческим чувством, лишь когда она заканчивается. Всякий раз, навещая отца, Энн убеждала себя, что делает это для того, чтобы «он помог ей своим сломленным присутствием удержаться на пути "искусство, и ничего кроме искусства"», но истинной причиной этого всегда было желание услышать его молчаливый рассказ о прекрасной истории любви. Она хотела, чтобы своим присутствием он доказал: страсть существует, она длится и может даже сделать из вас куклу, которую бросил кукловод. А прекрасное в этом то, думала Энн, что никто еще ничего не сказал о любви, ничего не написал, — это чувство еще требует изучения… К счастью, для меня этот вопрос уже решенный, подумала она благоразумно. А между тем она навещала отца, чтобы успокоиться, чтобы еще раз увидеть этого свидетеля. Она приходила не за советом — ее решение уже было принято, — она хотела быть женщиной, живущей головой, в ее жизни место было лишь для искусства и, разумеется, никак не для тореадоров. На в этой тщательно убранной квартире, где все укрывалось за идеальным порядком, где всякий лежащий не на своем месте предмет выглядел непристойно, она немедленно ощущала присутствие другого полюса — полюса страсти: именно за этим она сюда и приходила. Ей необходимо было повидаться с отцом, улыбнуться ему, поговорить с ним, чтобы успокоиться, чтобы ей вновь было обещано то, что он когда-то разрушил. Впрочем, вот он уже возвращается, толкая перед собой столик на колесиках с чаем. Он выглядит слегка встревоженным и входит со словами, как бы уже перехватывая инициативу: