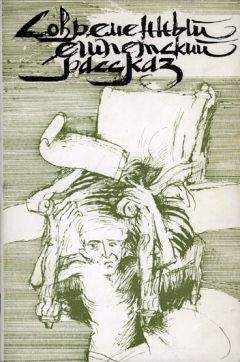Владимир Костин - Рожок и платочек
Я это говорю для того, чтобы объяснить, почему я все-таки поделилась душой с Агафьей Васильевной. С первого взгляда было ясно, что она сама по себе, о могиле помнит, сплетнями, конечно, брезгует. Я знала, что она ни с кем не контачит, местные пенсионеры говорили о ней: ну, эта, мол (припоминаю, к слову, что за все годы, что я там промыкалась, ей пришло всего одно письмо, откуда-то из Мурманской области). Хочу сказать, что мне по-своему интересно стало, как она будет реагировать, что греха таить.
— Сбежала я от мужа в Томск. Он у меня фактически с ума сошел или оскотинел до такой степени. А сегодня получила от него письмо, зовет.
— Вернуться хочешь? — спросила Агафья.
— В том-то и дело, что не знаю. Ни да ни нет. Мучаюсь.
Она пожала плечами: может быть, я дура. Слушала она меня как-то недоверчиво, издалека. Как будто я с ней не обычной бабьей бедой делюсь, а рассказываю «Клуб кинопутешествий».
Мы с Павлом учились в одном классе, жили по соседству, дружили. Когда он пошел в армию, я обещала его дождаться, и дождалась.
— Любила? — спросила Агафья.
— Наверное, — отвечаю, — наверное, любила.
— А он тебя? Любил, целовал тебя? — Она задавала нескромные вопросы.
Я уклонилась. Паша был нормальный паренек, даже опрятный, в отличие от прочих (Бритвин был симпатичный, но распущенный). Меня выделил с седьмого класса. Я, конечно, не красавица, но уж и не жаба. Без меня дня не жил, привык. Наколымил в порту ящик яблок — к нам принес.
А после армии резко переменился. Я не успела того понять, потому что мы поженились через месяц после его возвращения. Он служил в России, в городе Муроме, и его там явно искалечили. Ничего ему не стало нужно. Заленился, работал через пень-колоду, дома не делал ничего. Все время валялся и мечтал куда-нибудь свалить. То в Молдавию (можно подумать, его там ждали), то наняться на Диксон, то в милицию баклуши бить. Но на БАМ-то его даже с перепою не тянуло.
Устроили его, по мохнатой лапе, электриком в гостиницу «Енисей». Работал, как говорится, в меру — чтобы не выгнали, как все, стал выпивать. Ходил в тельняшке — прикидывался десантником. В кармане всегда носил мускатный орех, чтобы от него не пахло. Поначалу хоть ненадолго, но приходил домой, жил семейной жизнью. Но очень скоро началось: в теплое время вообще без исключений приучился возвращаться к ночи и невменяемый. Прописался на берегу, на пристани. Гостиница стоит прямо над берегом, два шага, пока подумаешь, куда путь держать, башмаки сами доводят до Енисея. Там у нас настоящий караван-сарай. Вся наша молодежь, все непутевые болтаются там с утра до вечера, пьют, травят друг другу душу. И ведь никакой у них дружбы, наоборот, ищут, как бы поглумиться над слабым. Обтерлись друг о друга, сделались на одно лицо, и Павел такой же. Такая публика: сегодня ребенка на пожаре спасут, завтра — кого-нибудь запинают ногами до смерти. Не очень моего там ценили — похоже, унижали, он приходил домой и начинал меня строить. Зажжет спичку и командует: ужин на стол, пока не сгорела. Мне все это не нравилось, я начала сопротивляться, а он начал меня бить, без всяких похмельных извинений.
Думала, ребенок появится — перебесится, но он же не хотел ребенка! «Нищету плодить!» Год, два, три, четыре. Разводиться стыдно, да и родня не даст, я сбежала.
— И что, тебе плохо сейчас? — спросила Агафья.
— А что хорошего, — отвечаю, — была своя квартира, свой уют, а здесь койка, тумбочка да похабные бабские разговоры. Не дрался бы, просто приходил бы и падал — какие проблемы? Весь вечер мой, у нас телевизор был, я вязала.
— Ну да, ну да, — закивала бабка, — понятно. Да только не сдохнет он, не надейся, они долго живут, такие трубочисты. А найдешь другого, нового — будет такой же, потому что дело в тебе, а не в нем.
— Чем я Бога обидела? Никогда не закричу, могу с юмором отнестись. Готовлю хорошо.
— Шире, шире оно все, — сказала Агафья, — я же говорю: именно по-человечьи с ними нельзя. Сколько живу на свете, все они одинаковые, что довоенного помета, что послевоенного. Смотри, во что они жизнь превратили — проматерили, пропили ее, болтуны, бездельники, трусы. Жить тошно. Мужчины в этой стране перевелись, милая моя, давным-давно. В чем всему и корень, смекаешь своими маленькими мозгами?
Я хотела обидеться, но тут она понесла такой бред, что я уж думала об одном: как бы от нее поскорее убраться. Сидит напротив меня, руки крест-накрест, глаза как у бабы-яги.
— Я не доживу — ты доживешь, увидишь: когда они сгниют заживо, наши женщины побегут от них куда глаза глядят, в дальние страны. Пойдут замуж за мистеров и герров. Матери будут для заграницы дочерей растить: вырастешь, красавица, пойдешь под венец в Париже. Будут различать — в Париж хорошо, а в какую-нибудь Варшаву — так себе. А эта сволочь вся вымрет, сама себе и муж, и жена.
— Зачем вы так, — говорю, растерялась, — зачем нам под буржуев?
Какая-то политика получается словно, а сама выбираюсь из-за стола. Старуха оказалась с приветом, у нее крепко съехала крыша. Она, однако, мигом опомнилась: ну ладно, спасибо, Надюша, не болей. Не болей, говорит! Можно подумать, утешила.
До самого моего перехода на Степановку мы с ней общались сухо, официально, забыли про этот разговор.
А к Павлу я не вернулась, осела здесь, удачно вышла замуж, за человека младше себя. Прошло тридцать лет, Павел гулял двадцать лет, жил как попало, а потом стал монахом в Спасо-Преображенском монастыре. Отец Даниил, его там все знают. Он лечит от мужской слабости. К нему приезжают даже из Москвы.
ВОЛОДЯ: Зима, утро в русское Рождество, со вчерашнего не унимается бессонная метель. Весь город в молодых, пушистых сугробах, на улице до того белым-бело, что в глазах мельтешат крохотные цветные звездочки. Понятно, что морозец самый мягкий, оглаживающий. Пятиглавый храм, единственный, кажется, из открытых в городе, стоит на соседней с Сибирской улице, и я решил, ввиду Рождества, сменить подорожную и пройти к Ляльке мимо него и, может быть, познакомиться с тем, что внутри, чтобы было что ей рассказать. «Ваши пальцы пахнут ладаном», а я не знал, как пахнет ладан и не видел, как богомольные целуют руку попу.
За углом ждала меня картина. Множество старушек, одних старушек, горбатых, с посошками, в основном попарно, рассыпалось по белому полотну, карабкаясь сквозь сугробы вверх по склону. Порывы метели не могли перекрыть гуляющий между ними ропот, они все разговаривали с понятной громкой жадностью засидевшихся у окна долгожителей. А навстречу им, презрительно отворачиваясь, пер по середине улицы единичный безбожный сантехник, в обрыжелой фуфайке, с рабочим чемоданчиком под голой зеленой кистью.
Поневоле сбавив разбег, я шел вслед двум подружкам, обеим сильно за семьдесят. Они восходили, как зимние черепахи, и толковали, хрипло дыша, хватая друг друга под руки, скорей к взаимному раздражению. Первая трубила, что метель как в Гражданскую. В их деревне пришли в храм комиссары и набезобразничали: «Христа придумали, и все тут недействительное». А в Душегубство и вовсе повсюду всех разогнали и батюшек постреляли. Явимся сейчас к Господу, а там, глядишь, — опять арестовано. Вторая упрекнула ее в пристрастии к черному цвету и назвала вечной каргой. «Сейчас уважают верующих! — сказала она. — К Брежневу духовник ходит. Храм не посещает, врать не буду, а духовник ходит». — «Ну цветики лазоревые, — возмутилась первая, — зайдет слуга Божий, на Ленина перекрестится — и кофейком балуются в тепле. Кино! Услышат они твое вранье, не меня — тебя первую на цугундер сведут. Без рейтуз с начесом, ха-ха-ха».
Спасительно оглянувшись на меня, оптимистка сменила материю: «Ты, стригунок, пристроился он за бабками, иди-ка ты вперед, топчи бабкам тропку!» И я обогнал их, и еще целый взвод Христова воинства, но в храм, обветшалый и какой-то негостеприимный, заходить раздумал: буду там как пугало среди этих райских яблок, как вести себя там — не знаю, креститься не смогу. И выпрут меня с позором.
Из трубы валил пухлый, роскошный дым, метель сбивала его, гнула, секла на струи, а он неутомимо, празднично валил себе, не жалел тратиться. Лялька, в драной болоньевой куртке и вязаной шапочке, в валенках, снятых с великана, убирала со двора снег, кидая его через забор осиновой лопатой, за которой могла запросто спрятаться. У нее горело лицо, она вполголоса напевала «Дубинушку». Я подошел к калитке и молча повис на ней, желая налюбоваться. Лялька перестала петь и молча опорожнила на меня лопату. Это было хо-ро-шо!
Я закрутился волчком, и она меня передразнила:
— Не обнимайся на улице, — сказала Лялька, — тебе это надо?
— А где бабуля, — спросил я, — не пошла ли помолиться?
— Что ты, — удивилась Лялька, — она не ходит, она неверующая.
А дома нет, отправилась в баню. Она Рождество так празднует: сходит в баню, возвращается не торопясь, заваривает древний чайничек и часами пьет чай с дунькиной радостью. Ей нипочем, у нее зубы бобровые… И целый день отдыхает, думает.