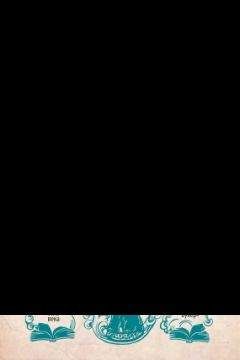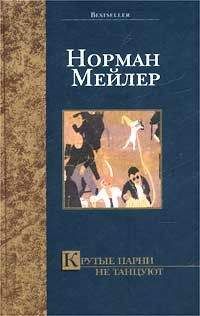Алан Черчесов - Вилла Бель-Летра
«Дополнение № 2/4 от 19 июня 1901 г. к отчету № 3812/1 полицмейстера г. Дафхерцинга, баронета Ганса фон Трауберга
В ходе дознания по делу об исчезновении хозяйки виллы Бель-Летра 16 июня с.г. мною сняты показания с г-на Мартина Урайи Пенроуза, 44-х лет от роду, английского лорда и литератора, в которых он упомянул о том, что Лира фон Реттау прибыла на виллу в двухместной пролетке в сопровождении кучера, лично внесшего в здание саквояж. Иного багажа при исчезнувшей не было. Насколько лорд Пенроуз мог разглядеть из окна столовой, покидая экипаж, хозяйка имения в одной руке держала книгу в кожаном переплете зеленого цвета, а в другой — позолоченный лорнет, из чего опрашиваемый заключил, что г-жа фон Реттау в дороге читала и, по всей видимости, прервала это занятие лишь по прибытии на виллу. При осмотре личных вещей пострадавшей на прикроватной тумбочке обнаружен книжный том, соответствующий полученному описанию. Им оказался роман на английском автора Джозефа Конрада (издательский дом „Вильям Блэквуд и сыновья“, Эдинбург — Лондон, 1900 г.).
По внимательном изучении, на полях некоторых страниц обнаружены острые вдавливания, похожие на следы женского ногтя. Есть вероятность, что это пометы, сделанные г-жой фон Реттау напротив особенно впечатливших ее изречений. Привожу их полный список:
„Уколы жизни задевали его самодовольную душу не глубже, чем царапает булавка гладкую поверхность скалы. Этому можно было позавидовать. Когда он сидел подле непритязательного бледного судьи, его самодовольство казалось мне и всему миру твердым, как гранит. Вскоре после этого он покончил с собой“. (Помечено двумя вертикальными чертами равной длины).
„…Мысль вторгается в жизнь, и человек, не имея привычки к такому обществу, считает невозможным жить“. (Помета нервная, кривая, под углом к печатному тексту).
„…Я убежден, что ни один человек не может до конца понять собственные свои уловки, к каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания“. (Помечено двумя чертами).
„Не ко мне он обращался, — он лишь разговаривал в моем присутствии, вел диспут с невидимым лицом, враждебным и неразлучным спутником его жизни — совладельцем его души“. (Одна вертикальная линия и две короткие царапины под нею, похожие на подчеркивание).
„Меня заставляли видеть условность всякой правды и искренность всякой лжи“. (Три вертикальные черты и одно подчеркивание).
„Он упал с высоты, на которую больше уже не мог подняться“. (Черта едва видна. Возможно, это всего лишь фабричный дефект).
„Стойкость мужества или напряжение, вызванное страхом? Как вы думаете?“ (Вдавливание, очень глубокое, едва не продравшее ногтем страницу).
„Проклятие бессмысленности, какое подстерегает все человеческие беседы, спустилось и на нашу беседу и превратило ее в пустословие“. (Две вертикальные черты, похожие на два восклицательных знака).
„…Мои тонкие безнравственные намерения разбились о моральное простодушие преступника“. (Три вертикальные черты и подчеркивание ногтем прямо по тексту).
„Мне стало ясно, как трудно иной раз бывает заговорить. Есть какая-то жуткая сила в сказанном слове…“ (Две перекрещивающиеся прямые, наталкивающие на мысль, что читать их нужно как большой знак плюс).
„— Есть только одно средство. Только одно лекарство может исцелить нас: чтобы мы перестали быть собой!“ (Сразу четыре черты напротив фразы).
„Он ушел, так до конца и не разгаданный…“ (Короткие вертикальные черты с обеих сторон напротив строки).
Составлено 19.06.1901 г. в г. Дафхерцинге, Бавария.
Заверено личной подписью: „Г. фон Трауберг“.
Все три страницы пронумерованы и сшиты между собой».
Все-таки любопытно, как, даже исчезнув совсем без следа, человек успевает после себя оставить пометки — на полях чужого романа. Интересно, задумывался ли полицмейстер фон Трауберг над такой вот, достаточно горькой, но неотменяемой истиной: как бы мы ни старались высказать что-то свое, нас уже написали — другие… Не выпуская тома из рук, Суворов подключил ксерокс к сети, уложил разверстую книгу на экран загудевшей машины и, уменьшив вдвое масштаб, нажал кнопку «копировать». Спустя секунду аппарат выдал страницу, а затем, к удивлению гостя, — еще одну. Гудение тут же сменилось покладистым урчанием домашнего питомца, словно машина задалась целью завоевать расположение посетителя, распознав в нем хозяина.
Вернув том на место, Суворов покинул библиотеку. У выхода на стене пылилась пробковая доска. Поразмыслив, он прикнопил к ней экземпляр снятой только что копии, второй сунул в карман штанов, после чего спустился на первый этаж.
Половину его занимала столовая, из которой на кухню вела дверь с без труда угадываемой надписью «Посторонним вход воспрещен»; оттуда уже раздавалось бойкое треньканье кастрюль и многообещающее шипение. Он вернулся в вестибюль, оглядел резные китайские кресла с круглым столиком, осмотрел пейзаж на стене (девятнадцатый век, «Грюндерцайт»), распахнул стеклянную дверь и оказался в просторном помещении с длинным столом, по-апостольски охраняемым двенадцатью стульями темной полировки с высокими, в человеческий рост, инквизиторскими спинками. В углу стоял резной китайский секретер, напротив него гладкой теплой беременностью ласкала глаз голубая старинная печь из фарфора с фигурками христианских святых, опоясавших ее в несколько тесных рядов. На овальном подиуме у окна приседал кривоного еще один низенький стол с парой вместительных кресел все той же китайской работы. Помнится, свой интерес к Востоку Лира фон Реттау объясняла стремлением оказаться по ту сторону безобразного и красоты: «Только в Поднебесной вам могут подарить из лучших побуждений гроб. А там, где прилично примерить заранее смерть, жизнь точно должна быть впору. Неудивительно, что китайцы изобрели все на свете: единственное ограничение мира, которое они себе позволили, — это Великая китайская стена. Да и та понадобилась им лишь затем, чтобы оградиться от нашего вероломного невежества…»
В небольшой смежной комнате пол был застлан старинным персидским ковром с вышитыми шелком птицами. Из мебели было три кресла, полдюжины стульев и огромный диван, отраженный экраном видео-двойки в дальнем углу. В отличие от гостиной, окно здесь шло во всю стену, выступая уютной полуокружностью на мраморную террасу, где как раз лупоглазо резвился пузыристый дождь. Комната отдыха, определил Суворов. Комната-лежебока. Наверно, поэтому здесь и развесили всю эту графику — чтобы умерить барскую осоловелость гарнитура. Графика была не ахти (птичьи следы на снегу, вязальные спицы на простыне, стрелки волн, бегущих по глянцу воды), но в качестве интерьера смотрелась пристойно.
Помимо двух санузлов и запертого на замок кабинета администрации на этаже он ничего не нашел. Снова выйдя к скрипучей деревянной лестнице, Суворов решил продолжить осмотр внизу. Из каменного подвала сразу же потянуло прохладой. Почесав рукой по стене, гость щелкнул выключателем. Через миг убедился, что стоит лицом к лицу с пустотой. Широкий коридор с гулким брусчатым полом замыкали несколько белых дверей. Открыв их поочередно, Суворов вычислил прачечную с парой стиральных машин, подсобное помещение, набитое мумиями шезлонгов и нависшими сверху знаменами пляжных зонтиков, а также приземистую каморку с нехитрым хозяйственным инструментом. Ничего необычного. Разве что запах, наводящий невольно на мысль о заброшенном в холод тайн всеведущем подземелье (набредши на штамп, фантазия, иронически хмыкнув, застопорилась).
Когда он вновь вернулся на площадку первого этажа, в слабом свете торшера мелькнула бесшумная тень. Суворов прибавил шагу, но никого не застал в вестибюле, кроме эха огрызнувшейся из кухни посуды. Решив уже было, что ему почудилось, он вдруг услышал хлопок затворившейся двери. По тому, как притих гул дождя, догадался, что это на входе, обогнул выступ арки и бросился вслед. Распахнув тяжелую дверь, выбежал на крыльцо и, остановленный ливнем, огляделся по сторонам. Напрасно: ни тени, ни даже шагов от нее. Словно их растворил подчистую дразнящийся дождь.
— Прямо мистика, — пробормотал он и, подумав, добавил: — Нет, брат, похуже — беллетристика чистой воды…
За сто лет слишком много скопилось здесь духов, чтобы можно было поверить хотя бы в кого-то из них. Что, впрочем, надо признать, им не очень мешало: покидая крыльцо, Суворов наткнулся на надпись, выведенную золотом на арочном своде, венчавшем сумрачный коридор: «Altyt Waek Saem». Да-да, как же, помню, читал: один из ее воздыхателей, то ли голландец, то ли датчанин, одарил Лиру фон Реттау сим глубокомысленным изречением. Означает что-то вроде напутствия: «Будь всегда настороже». Протестантская вариация латинского «Memento mori». Своеобразный перевод с языка метафизики на провинциально-дидактический штиль. У полиции для этой надписи нашлось свое толкование: прочитав все три слова как намек на угрозу, они кинулись было искать, да вот парень (кажется, звали его Руут Ван Хаагенс) их крепко подвел — был уже год как мертвец. Оставались писатели. До сих пор остаются…