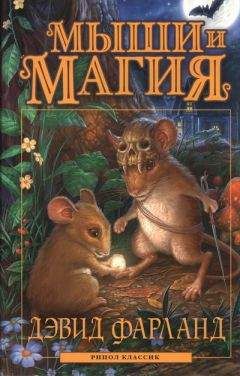Анатолий Жуков - Голова в облаках (Повесть четвертая, последняя)
— Я тебе тайный секрет скажу: дорогу я придумал — сама едет и других везет. Туда и обратно. Как лестница-чудесница в Москве. Помнишь, по телеку показывали?
— Ага, метро называется, — так же шепотом сказала Михрютка.
— Правильно, метро. Эскалатор. Только у меня не наклонный, а ровный, широкий и длинный, вместо дороги будет.
— А где машины тогда станут ездить?
— Нигде. Их теперь и не будет, машин-то, зачем они, если дорога самостоятельно ездит.
— Вот хорошо! — вслух восхитилась Михрютка. — Тогда не надо больше выдумывать, купаться с тобой будем, на велике гонять…
Феня встала:
— Пошли в палату, чего на дворе сидеть, как бездомным. Пообедаем семьей, вон сколько всяких припасов захватила.
Сени подождал, пока она спустится из беседки на тропу, взял тяжелую сумку, Михрютка захватила амбарную кишу, и они отправились в корпус.
— Я твоего черного зайца во сне видал, — сообщил он дочери. — Только это не заяц, а кролик.
— Я знаю, дедушка Ваня Чернов сказывал. А почему тебя так смешно одели, папань? Штаны и рубаха больше тебя…
— На вырост дали, дочка.
Феня оглянулась на них и затрясла грудями, зашлась в смехе: только сейчас заметила, что Сеня в таком наряде.
VII
Темное больничное окно постепенно синело, голубело, светлело, и вот уж совсем рассвело, а Веткин так и не сомкнул тяжелых век. Лежал на продавленном жестком матрасе, слушал детское дыхание блаженно-счастливого Сени и тяжело думал все об одном и том же: что такое человек и зачем он пришел на эту землю? И человек вообще, и конкретный Сеня или Веткин. Впрочем, сам Сеня, наверно, убежден в своей необходимости, он всю жизнь что-то изобретает, но ты-то уж не можешь утешаться этим, а все равно и ты держишься за жизнь.
— Доброе утро, товарищ Веткин, — сказал Сеня, зевая. — Я опять свою Феню во сне видел — хорошо, приятно.
Веткин поморщился. Велика приятность!
— Она ведь у меня красивая, — радовался Сеня. — Как ваша Елена Ивановна. Только Феня черная брюнетка цыганской внешности вида, а ваша супруга — белая блондинка.
— Глупости. Я бы такой сон и смотреть не стал. Что они могут, бабы?
— Они все могут, товарищ Веткин. Например, произвести новую жизнь, могут отдать себя в полное распоряжение любящему мужчине. Себя-а!
— Да на что мне она — мне весь мир нужен! Ми-ир! А она себя отдает и этим мир заслонить хочет.
— Нет, товарищ Веткин, на мир и сквозь них можно глядеть: ведь они добрые, красивые…
— Какая красота — узкоплечие, широкобедрые уродины. А лица заштукатурены. Зачем, скажи ты мне, накрашиваться и подрисовываться, если лицо у тебя красивое, зачем?… Какой же ты блаженный, Сеня!
— Нет, я не блаженный, я все знаю, товарищ Веткин. Только все равно люблю и ее и детей без всякого возражения души.
— Чужих детей?
— Не чужих, они — наши. Я же кормлю их, разговариваю с ними, заступаюсь, когда Феня на них сердится в раздраженности психики. Но вы не думайте, она их тоже любит и жалеет в одинаковой расположенности, как и меня. А мечтает она знаете о чем? О том, чтобы и от меня родился ребенок. Тогда, говорит, я буду самая счастливая баба на земле.
— Тьфу, мать твою…
— Не сердитесь, я правильно говорю. Дети ведь меня тоже любят, а они, как собаки или лошади, инстинктом чуют, кого можно любить. Плохого они не полюбят.
— Значит, ты хороший?
— Хороший. Меня даже собаки не кусают. Иная разгонится, разорвать готова, а я погляжу на нее с укорчивостью в глазах, она и утихнет, хвостом завиляет в извинении.
— О, господи, он в самом деле счастливый!
— Нет, товарищ Веткин, счастливый я буду тогда, когда увижу свою МГПМ в действительности эксплуатации.
— Скажи пожалуйста! Это что же, новое изобретение так называется?
— Ага. — Сеня, поняв, что проговорился, сел на постели. — Только рассказывать его я не буду и вы, пожалуйста, не просите.
— Больно надо!
Семя облегченно вздохнул и отправился совершать утренний туалет.
Веткин лежал, боясь выйти за дверь: если не в коридоре, то в туалетной комнате обязательно встретишь курильщика с сигаретой и не удержишься. А может, и не надо удерживаться? Но неужели он такой слабак, что не спра-вится с этой ничтожной гадостью? Слабак не слабак, но, может, и не справится: в груди что-то сосет, щемит, сердце колотится, будто испуганное. И никак не проходит иссушающая жажда сигаретного дыма — хоть струечку бы, хоть глоточек!
Проклиная себя и оправдывая тем, что надо же сходить и туалет, умыть небритую бессонную рожу, Веткин встал и, взяв полотенце и мыло, пошел вслед за Сеней. Коридор был полон прекрасных запахов «Примы», «Беломора», «Дымка» и даже медового «Золотого руна», но это уж наверно Пригрезилось, потому что ни сигарет, ни табака «Золотое руно» в Хмелевке не продавали. Волнующие эти запахи усиливались и грубели по мере приближения к туалету, а в туалете, едва он открыл дверь, стоял такой синий чад, что Веткин закашлялся. Курившие возле урны мужики узнали его, засмеялись.
— Что, инженер, отвык за ночь от дыму? На-ка хватани.
— Бросил, — сказал Веткин, отрезая путь к отступлению.
— Да когда ты успел?
— Давно уж. В обед сутки сравняется. — И скрылся в кабине.
— Давно-о! А мы вот и не пытаемся…
— Куда нам до него, мы не герои.
— Причем тут героизм, мужики. Тут не героизм, а терпение необходимо.
— Героическое терпение!
— Ну вот опять! Клавка Маёшкнна бросила, а как ведь садила. И выпить любила.
— Клавка — баба, чего равнять.
— Это Митя Соловей так ее перелицевал. Смирный мужичок, а упорный оказался…
Веткин слушал их, воровски ловил вонючий дым, и сердце его будто радовалось возвращению в привычную губительную обстановку. Стыдясь самого себя, он мимо удивленных курильщиков выбежал из туалетной комнаты.
В коридоре чуть не сбил большеголового мужичка, узнал в нем Сеню, но не остановился, а пробежал до своей палаты и бухнулся в постель вниз лицом.
Слабак, слабак! Раб ничтожной привычки, безвольный слюнтяй, табачку ему, сигареточку, а то помрет! И водочки еще, водочку он тоже обожает, он не может глядеть на эту жизнь трезвыми глазами, отвык, забыл, какая она на самом деле, трезвая жизнь! А он за нее воевал, он четыре года со смертью в обнимку ходил, и вот теперь бессильно барахтается в пошлых привычках, слабый, злой, отчаявшийся.
— Вы не заболели, товарищ Веткин? — спросил от порога Сеня. Подождал, глядя на его косматый седой затылок, напомнил: — Скоро завтрак, вставайте. А насчет куренья сигарет не расстраивайтесь — нездоровая привычка здоровых людей.
— Иди ты… — Веткин досадливо мотнул головой, вжимаясь в жесткую подушку.
— Напрасно сердитесь, я говорю правильно. — И огорченный Сеня пошел, в ожидании завтрака, погулять в больничный двор.
Неподалеку от аллеи он заметил бородатого Монаха, склонившегося над муравейником. Старик с интересом наблюдал работу насекомых, их передвижение по еле видимым дорожкам между деревьями и по деревьям, суету у конического их дома и покачивал головой:
— Ни одного одинакового нет! Ах малышки мои, малышки… А люди в самолюбной своей гордости думают, что только они разные, а вы, мураши, одинаковые. Глупость, глупость!
Сеня подошел, поздоровался. Монах кивнул и продолжал наблюдать. Потом, покашляв, сказал, что нынче будет дождь. Не скоро еще, к вечеру или ночью. Видишь, как работают.
Сеня ничего особенного для конкретных заключений о дожде не увидел, но кивнул и сообщил, что изобрел дорогу, которая движется сама и не мешает живой природе жизни. Монах недоверчиво усмехнулся.
— А я объясню, объясню, — заторопился Сеня и поднял с земли прутик, собираясь начертить план своей МГПМ.
— Не здесь, — сказал Монах, отстраняя его от муравейника.
Они вышли на кирпичную аллею, и Сеня, кое-как наметив на пыльных кирпичах чертеж, стал объяснять безвредность своей уникальной магистрали. Монах благосклонно выслушал и неожиданно заинтересовался. Особенно ему понравилась возможность взять эту странную дорогу в большую трубу, люди тогда вообще отгородятся от живого мира на время пути, а сами пути будут вести только к полям, фермам, селам и городам. Если еще отобрать у всех Машины и мотоциклы, тогда станет совсем хорошо. С пешими браконьерами он справится запросто. Да и народ сейчас стал ленивый, пешком не любит распространяться.
— Молодец! — Монах хлопнул Сеню по плечу. — Идем кашу ость.
В столовой он заставил Сеню пересказать идею магистрали Юрьевне, и та тоже одобрила, попеняв Монаху на то, что он не признает пользы машин. Видишь, бывают и хорошие.
— Еще неизвестно, — отработал назад Монах. — На бумаге то всегда хорошо, а попытай в самделе…
— На самом деле будет еще лучше, — заверил Сеня.
— Поглядим.