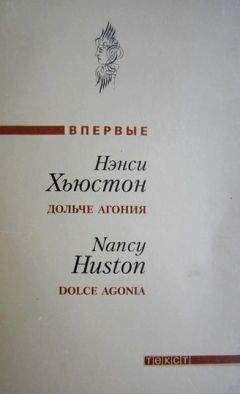Нэнси Хьюстон - Линии разлома
— Ничего-ничего, — приговаривает врач. — Это проще, чем отнести письмо на почту…
Лезвие вонзается в мою плоть. Брызжет кровь. Медсестра тут как тут, она ее останавливает.
— Я вычищу побольше… в глубину, вот… чтобы гарантия была, что вправду все убрано… Видите? Тычь пальцем в ноздрю, да поглубже, как говорят французы.
Медсестра давится от беззвучного смеха.
— Ну уж нет, только не это! — бормочет мама.
— Да что вы, разумеется, нет! — успокаивает врач. — Это просто выражение такое. Я его слышал несколько лет назад, когда учился в Париже.
— Что ж, значит, французы дурно воспитаны, и вы меня очень обяжете, если воздержитесь от подобных выражений в присутствии моего сына.
— Нет проблем, мадам. Вот, мы почти закончили.
Кровь стекает по шее, я это чувствую. Медсестра промокает ее. МОЯ КРОВЬ, КРОВЬ СОЛА струится из ВИСКА СОЛОМОНА.
Дыра в голове.
Рана в точности на том месте, куда тычут пальцем, изображая, будто стреляются. Папа говорил, что муж ПРА таким способом покончил с собой, это было давно, его мозги разбрызгались по кухонному полу, но мои останутся внутри, не вытекут через дырку в виске, они работают во всю мочь, чтобы продержаться, не растечься, удержать все на своих местах, не упустить ни единой подробности.
Врач ушел. Мама сильно сжимает мне руку и говорит, что я был невероятно храбрым, что я ее маленький мужчина, что она так гордится мной. Я пытаюсь улыбнуться, но левая сторона лица онемела, и улыбка удается только наполовину.
День идет к концу, чувствительность восстанавливается, это плохая чувствительность, то есть боль. Я о ней молчу. Никаких жалоб. Я сумею ее вынести. Это испытание, и я его выдержу с блеском.
Наступает время ужина, на столе все безвкусное, мягкое, такое, чтобы я мог это есть: картофельное пюре, йогурт, яблочный компот… Вот я уже доедаю десерт, тут примчался папа, но мне кажется, будто его здесь нет, он словно прозрачный или это его голограмма возникла в клинике, а настоящее папино тело еще в сотнях световых лет отсюда. Когда он дематериализовался, я вздохнул с облегчением.
Мама провела ночь в моей палате на раскладушке. Медсестра дала мне обезболивающее, чтобы я смог уснуть. Я получил порцию крепкого сна без сновидений, а когда проснулся, боль все еще была. Но я ничего не сказал.
Домой мы вернулись позже, к середине дня. Медсестра объяснила маме, как обрабатывать мой висок, чтобы он заживал, а мама растолковала мне все насчет дермы, эпидермы и клеток, которые делятся.
Когда они делятся быстро и упорядоченно, чтобы залатать пострадавшую поверхность, это хороший процесс. Когда они делятся быстро, но беспорядочно, это процесс плохой, он называется рак. Мама сняла мою повязку и старательно потыкала в рану ваткой с дезинфицирующим средством, я ей сказал, что она самая милая сиделка на свете, а она мне сказала, что я самый терпеливый пациент, тогда я наградил ее улыбкой, но слабой, чтобы она чувствовала, каких усилий мне стоило улыбнуться ей.
Дни шли за днями, а боль все не уходила, это было что-то вроде крестной муки.
В воскресенье, через четыре дня после операции, мама попросила папу прийти посмотреть, как она делает мне перевязку. Когда папа увидел мой висок, он побледнел; я это заметил и сразу понял: ситуация ухудшается вместо того, чтобы улучшаться. Туда занесли инфекцию. Неизвестно, как это могло случиться, ведь мама обрабатывала рану дезинфицирующим препаратом, но там все-таки завелся какой-то микроб. Микробы — это как крохотные микроскопические звери, они кормятся живой плотью и пытаются ее убить. Теперь у меня на виске нарыв.
— Абсцесс, — объясняет мама, — содержит все те клетки, которые микробы постарались разрушить. Есть разные породы микробов, это, видишь ли, то же самое, как люди бывают различных рас.
— На тебя подло напали клетки-террористы, — говорит папа. — Надо будет сделать биопсию, чтобы посмотреть, кто сеет смуту. Ведь пока неясно, шииты это или сунниты, а может, тут какие-то злобные козни «Аль-Кайды». Но не волнуйся, мы своей цели достигнем.
— Мы их истребим, — сказал я.
— Ну да. Бросим на них танки-антибиотики.
Врач сказал, что нужна еще одна операция.
На сей раз он меня усыпил. Свет погас. Солнце кануло. Лучезарного Сола выключили в разгаре дня. Когда я пришел в себя и увидел маму, склонившуюся над моим изголовьем, я вдруг запаниковал: несколько секунд не мог понять, кто я, или, вернее, в моей голове еще не было меня, способного быть кем-то. Ужасное ощущение. Когда я наконец всплыл на поверхность и моя личность со своими воспоминаниями и надеждами утвердилась на положенном месте, я разозлился на врача: не мог простить ему этот потерянный час жизни.
Теперь меня продержали в клинике под наблюдением на день дольше и еще оставили на ночь. А когда отправляли домой, маме дали большущий, в руку длиной, список лекарств, которые требуется купить.
Но все равно я паршиво себя чувствую. Летние каникулы вконец испорчены, половина июля уже прошла, а я то валяюсь сонный в постели, то слоняюсь по дому, как неприкаянный; мне ни в Google зайти неохота, ни побаловаться с кончиком. Все потому, что я пока еще не вполне я.
Голова болит.
Мы возвращаемся в клинику, все трое. На этот раз маме приходится объяснить мне еще одно новое слово — «некроз», оно означает, что часть кожи вокруг моей раны совершенно мертва, так хорошо удалась микробам их атака. «Как бандитам в Ираке, — вставляет папа. — Их действия невозможно контролировать, стало быть, если мы хотим помешать распространению терроризма, надо ворваться в Фаллуджу и всех убить».
— А теперь, мой милый, — говорит мама, — тебе сделают пересадку.
— Это еще что?
— Ну, просто надо заменить мертвую кожу на таком видном месте твоего тела живой кожей, которую возьмут с другого места, менее заметного.
— С какого?
— Придется отколупнуть от трона вашего величества, — папа пытается рассмеяться, но вид у них у обоих такой, будто их сейчас стошнит. Врач меня снова усыпляет, а когда прихожу в себя, болит уже все тело, голову мне обрили, к тому же сильно поднялась температура. Пришлось провести в клинике на реабилитации целую неделю, раньше меня не выпустили.
Теперь Джон Керри пытается обойти Джорджа Буша в гонке за Белый дом, но никому в доме дела нет до избирательной кампании, у нас только и разговоров что о моей болезни. Творя молитву перед едой и вечером, укладывая меня спать, мама все просит Господа исцелить меня. В воскресенье утром папа остается дома, чтобы присматривать за мной, а мама идет в церковь одна. Она молится о моем выздоровлении снова и снова, но я все еще чувствую себя ужасно. Папа теперь злится на маму, зачем она настояла на превентивной операции, а мама на папу за то, что сообщил об этом своей матери: похоже, новость привела бабулю Сэди в истерическое состояние — она решила проделать долгий путь из Израиля, только чтобы нас повидать.
— Если честно, Рэндл, — говорит мама, — я должна признаться, что в последнее время чувствую себя довольно неуравновешенной и ранимой. Не знаю, вынесу ли, если придется долгое время прожить под одной крышей с твоей матерью, которая подвергает мои нервы суровому испытанию даже тогда, когда я в наилучшей форме. Сколько времени она рассчитывает здесь провести?
— Не знаю, — вздыхает папа. — По-моему, она купила билет с открытой датой.
— Да ты хоть понимаешь, чем это пахнет? Говори прямо: она зарезервировала себе день отъезда? Да или нет?
— М-м-м, нет, мне кажется, что нет, — мямлит папа. — И что теперь?
— О Боже милосердный…
Обычно именно у папы возникали проблемы со своей родительницей, но теперь, когда мама нападает на бабушку Сэди, папа спешит ее защитить.
— У моей матери большие связи, Тэсс, — говорит он. — Она знакома с важными лицами Калифорнии. Она может нас свести с хорошим адвокатом.
— Адвокатом?
— Само собой! Ты же не думаешь, что я стану сидеть сложа руки, когда осатаневший мясник расправляется с моим сыном? Я притяну его к суду, этого грязного врачишку. Проклятый пакостник, он просто-напросто…
— Рэндл!
— Мне ужасно жаль, Тэсс. По правде сказать, для меня все это тоже… невыносимо…
Тут мой отец кинулся вон из комнаты, ведь мужчины не должны плакать при свидетелях, хоть это и человечно, как утверждает Шварценеггер в «Терминаторе-2».
Большую часть времени я сплю и даже после долгого сна чувствую себя вялым, апатичным. Я тоже не в восторге, как подумаю, что увижу бабулю Сэди. Знаю, она на меня рассчитывает в том, в чем дали осечку все мужчины ее жизни: ее отец, которого она никогда не видела, муж, непризнанный драматург, безвременно умерший, и сын, которому она в один прекрасный день бросила в лицо, что он «бесхребетный чиновник». И я не обману ее надежд, готов даже в этом поклясться, но лучше бы она заявилась сюда, когда я буду поздоровее. Сейчас, видя меня в этом дохлом состоянии, не так-то легко поверить, что я спаситель человечества.