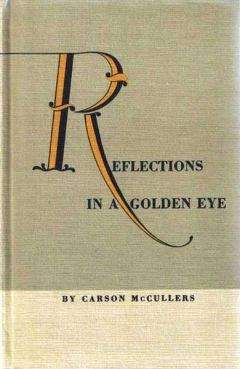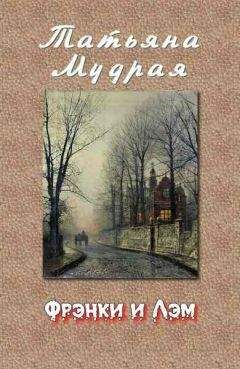Карсон Маккалерс - Участница свадьбы
— Детка, обычный припадок.
По ее тону Фрэнки поняла, что ей чего-то недоговаривают. А позже она помнила только то, что Марлоу — простые люди, и потому обладали простыми вещами.
Спустя долгое время она перестала думать о Марлоу и о его припадке, помнила только их фамилию и то, что они когда-то снимали спальню в их доме, и в ее представлении простые люди связывались с розово-серыми пуховками и пульверизаторами для духов. С тех пор Адамсы комнату никому не сдавали…
Фрэнки подошла к вешалке для шляп в прихожей и надела одну из шляп отца. Она взглянула в зеркало на свою сумрачную, безобразную физиономию. Да, говорить о свадьбе не следовало бы. Весь вечер она задавала не те вопросы, а Беренис отшучивалась. Фрэнки не могла понять, что за чувство мучило ее, и стояла перед зеркалом, пока вечерние тени не навели ее на мысль о привидениях.
Фрэнки вышла на улицу перед домом и посмотрела на небо. Она стояла и смотрела, приоткрыв рот, упершись кулаком в бок. Бледно-лиловое небо медленно темнело. В соседнем доме звучали голоса, веяло свежим запахом политой травы. В этот вечерний час, когда в кухне все еще жарко, она обычно шла во двор и училась метать нож или сидела перед домом возле киоска, где продавали освежающие напитки. Иногда она уходила на задний двор, в прохладную темную беседку. Она писала пьесы для спектаклей в беседке, хотя уже выросла из всех своих костюмов и была слишком высокой, чтобы играть в них; в то лето она сочиняла пьесы, пронизанные холодом, об эскимосах и замерзших исследователях. А когда совсем темнело, уходила домой.
Но в тот вечер она не думала ни о ножах, ни о киоске с освежающими напитками, ни о пьесах. Ей не хотелось смотреть на небо, ее душу бередили все те же вопросы, и ей стало страшно, как бывало страшно весной. Она понимала, что ей нужно бы думать о чем-то безобразном и простом, а потому оторвала взгляд от неба и посмотрела на свой дом. Их дом был самым безобразным во всем городе, но теперь она знала, что ей уже недолго жить в нем. Дом стоял темный и пустой. Фрэнки повернулась, прошла до конца улицы и свернула за угол к дому Уэстов.
Джон Генри стоял на перилах крыльца. Позади него светилось окно, и он был похож на куколку, которую вырезали из бумаги и наклеили на желтый картон.
— Эй! — окликнула Фрэнки. — Хотела бы я знать, когда папа вернется домой.
Джон Генри ничего не ответил.
— Мне не хочется одной возвращаться в этот темный безобразный дом.
Фрэнки стояла на тротуаре и смотрела на Джона Генри, и ей вспомнилась остроумная политическая шутка. Заложив большие пальцы в карманы шорт, она спросила:
— Если бы ты участвовал в выборах, за кого бы ты голосовал?
Высокий голос Джона Генри ясно прозвучал в вечернем летнем воздухе:
— Не знаю.
— Ну, например, если бы С. П. Макдональда выбрали мэром этого города, ты голосовал бы за него?
Джон Генри ничего не сказал.
— Ты голосовал бы?
Но ей никак не удавалось заставить Джона Генри сказать хоть слово. Временами Джон Генри вдруг замолкал и, что бы ему ни говорили, не открывал рта. Фрэнки пришлось возражать в пустоту, и шутка как-то не удалась:
— А я бы за него не голосовала, даже если бы он выставил свою кандидатуру на должность собаколова.
Окутанный сумерками, город затих. Ее брат с невестой уже давно приехали в Уинтер-Хилл. Они уехали за сто миль и теперь были в далеком городе. Они были сами по себе и вместе находились в Уинтер-Хилле; Фрэнки была сама по себе, одна, и оставалась все в том же месте. Ей не было грустно оттого, что они уехали за сто миль и теперь находились очень далеко. Но они были сами по себе и вместе, а Фрэнки сама по себе и одна. Однако, когда при этой мысли она почувствовала тошноту, неожиданно ей в голову пришло объяснение, и она чуть не сказала вслух: «Они — это мое „мы“». И вчера, и все предыдущие двенадцать лет своей жизни она была просто Фрэнки. Она была человеком с одним «я», она повсюду ходила и занималась разными делами сама по себе. У всех других людей, кроме нее, было свое «мы». Когда Беренис говорила «мы», это означало — Хани, ее мать или ее церковь. «Мы» отца Фрэнки был магазин. У членов разных клубов были свои «мы», к которым они тоже принадлежали и о которых могли рассказать. Солдаты в армии могут сказать «мы», и «мы» есть даже у каторжников, скованных одной цепью. Но у прежней Фрэнки не было своего «мы», на которое она могла бы предъявлять права, кроме ужасного «мы» этого лета, то есть она, Джон Генри и Беренис. Меньше всего ей было нужно такое «мы». А сейчас все это внезапно прошло и изменилось. У нее был брат и его невеста, и Фрэнки казалось, что, впервые увидев их, она узнала знакомое чувство, жившее внутри нее: «Они — это мое „мы“». Поэтому Фрэнки испытывала такое странное ощущение: Дженис и Джарвис были в Уинтер-Хилле, а она осталась одна, вернее, в городе осталась только скорлупа прежней Фрэнки.
— Что ты так согнулась? — спросил Джон Генри.
— Мне больно, — ответила она. — Наверное, я чем-то отравилась.
Джон Генри все еще стоял на перилах, держась за столб.
— Слушай, — сказала Фрэнки, — пойдем к нам. Мы поужинаем, и ты останешься у нас ночевать.
— Не могу, — ответил он.
— Почему?
Джон Генри прошел по перилам, расставив руки для равновесия. На желтом фоне окна он был похож на маленького черного дрозда. Ответил он, только когда добрался до второго столба.
— Потому, — ответил он.
— Ну почему?
Он ничего не ответил, и Фрэнки добавила:
— Я думала, что мы с тобой соберем мой индейский вигвам и ночью будем спать во дворе, за домом. Нам было бы весело.
Но Джон Генри опять промолчал.
— Ты — мой двоюродный брат. Я все время тебя развлекаю. И подарила тебе так много разных вещей.
Спокойно и легко Джон Генри прошел назад по перилам и остановился. Он опять ухватился руками за столб и посмотрел на нее.
— Серьезно, — повторила девочка, — почему бы тебе не пойти?
— Потому что мне не хочется, Фрэнки, — наконец ответил он.
— Дурак! — крикнула Фрэнки. — Я тебя звала только потому, что ты такой безобразный и одинокий.
Джон Генри легко спрыгнул с перил крыльца. Его детский голос звонко ответил:
— Но я совсем не одинокий.
Фрэнки вытерла мокрые ладони о шорты и подумала: «Повернись и иди домой». Но, несмотря на приказ, она не могла повернуться и уйти. Ночь еще не наступила. Вдоль улицы темнели дома, их окна светились. Темнота собиралась в густой листве деревьев, на расстоянии тени казались серыми и изломанными. Однако на небе ночь еще не наступила.
— Что-то здесь не то, — заявила Фрэнки. — Слишком тихо. У меня кости ноют. Спорим на сто долларов, что будет буря.
Джон Генри смотрел на нее из-за перил.
— Страшная, ужасная буря в жаркую пору. А может, тропический ураган.
Фрэнки стояла и ждала, чтобы наступила ночь. И в эту секунду где-то в городе неподалеку труба заиграла блюз, низко и грустно. Грусть лилась из трубы какого-то цветного паренька, но кто играет, Фрэнки не знала. Она стояла неподвижно, опустив голову, закрыв глаза, и слушала. Чем-то эта музыка напомнила ей весну: цветы, глаза незнакомых людей, дождь.
Музыка звучала на низких нотах загадочно и печально. Потом мелодия внезапно перешла в дикий джазовый ритм, который в причудливой негритянской манере зигзагами рвался вверх. Под конец музыка загрохотала и стихла, уносясь вдаль. Потом труба опять заиграла прежний блюз, и казалось, что блюз рассказывает заново о всем этом тягостном лете. Фрэнки стояла на темном тротуаре, и сердце ее опять сжалось, колени стукнулись одно о другое, и к горлу подкатил комок. Затем неожиданно произошло то, во что Фрэнки сначала не поверила. Как раз в ту минуту, когда музыка должна была стать громче, труба вдруг замолчала. В первую секунду Фрэнки не поняла, что произошло. Она растерялась.
Наконец она прошептала Джону Генри:
— Он остановился, чтобы продуть мундштук — туда попала слюна. Сейчас он снова заиграет.
Но труба не заиграла. Мелодия так и осталась незаконченной, сломанной. И Фрэнки почувствовала, что не вынесет этой скованности. Она испытывала неодолимую потребность сделать что-то дикое и неожиданное, чего она еще никогда не делала. Она ударила себя по голове кулаком, но это не помогло. Тогда она заговорила вслух, хотя сначала не обращала внимания на собственные слова и не знала, что скажет дальше:
— Я объяснила Беренис, что навсегда уезжаю отсюда, но она мне не поверила. Иногда мне кажется, что глупее ее нет никого на свете.
Она жаловалась вслух, и голос ее был зазубренным и острым, как лезвие пилы.
Она говорила и не знала, что скажет в следующую секунду. Прислушивалась к собственному голосу, но слова, которые она слышала, были лишены смысла.
— Попробуй доказать что-нибудь такой дуре — это все равно что разговаривать с бетонной плитой. Я долбила и долбила без конца. Я ей сказала, что должна уехать из этого города, потому что все равно это неизбежно.